Серебряный век в Париже - Лола Звонарёва

- Автор: Лола Звонарёва, Лидия Кудрявцева
- Серия: Люди эпоха судьба…
- Жанр: биографии и мемуары, документальная литература
- Теги: репродукции картин, русские художники, творческий путь, факты биографии, фотоархив
- Год: 2020
Серебряный век в Париже
Александр застал лишь отголоски грандиозного юбилейного празднества 1907 года – 175-летия корпуса. Отголоском «золотых» времён стала неожиданная встреча его со старой каменной стеной в кадетском парке, куда разрешалось входить только старшему классу. Брат Владимир, уже выпускник, «удостоил» его этого путешествия в знатное минувшее. Алексеев, как всегда, создаёт выразительную картину осенней прогулки и встречи с прошлым: «Мы важно шагали по мёртвым листьям. Мокрые стволы вековых деревьев вырисовывались на фоне облупившейся стены нашего старого манежа, куда кадетов уже не пускали. По всей стене, выкрашенной в красный цвет, то там, то здесь пластинками отваливалась штукатурка». Неожиданно он увидел на стене стихи Овидия, «когда-то красиво написанные на внутреннем слое, так как латынь у нас не преподавали, я не мог их понять». И далее с горечью: «…и стена мне показалась как бы вещественным доказательством: она являла нам то, чем была некогда наша школа».
Стена получила название «Говорящая». Один из историографов корпуса сообщал: она исписана крупною красною прописью по-французски, по-немецки и по-русски различными изречениями, поговорками, аллегориями, выписками из истории и биографиями великих людей науки и великих полководцев, хронологиями выдающихся мировых событий. Вперемежку с надписями красовались рисунки аллегорического содержания – например, мотылёк, обжигающий крылья у пламени горящей свечи, две руки, затягивающие узел дружбы, пирамида, стоящая на четырёх кубах с надписью: «Я держусь своею прямизною». Выпускники назвали то блестящее время, а это были всего лишь три года конца великого столетия, «блаженными ангальтовыми временами». Ибо создателем «Говорящей стены» и их главным воспитателем был генерал, граф Фридрих Ангальт (немец по происхождению), наречённый в России Фёдором Евстафьевичем, директор корпуса, названный кадетами «благодетелем, попечителем, наставником и другом». К десятым годам ХХ века от того высокого просветительства и воспитания не осталось и следа.
Началась и в корпусе новая жизнь, напомнившая ту, былую, екатерининскую. Её застал Владимир: «В своём классе он входил в маленькую группу просвещённых умов, снобов, споривших о декадентском и футуристическом искусстве и о свободном театре». Александр и такой «группы» единомышленников был лишён. Унизительное поражение России в войне с Японией, революционное брожение, позорная Первая мировая изменили обстановку и в кадетском корпусе. Это убедительно прозвучит, возможно, в единственных воспоминаниях о том времени Александра Алексеева. Не настроенный монархически, как его родители, он пишет без верноподданности, нелицеприятно. И хотя настойчиво повторял, что вместе с другими детьми был «брошен в тюрьму, как бы для того, чтобы его научили жить», становление и развитие в нём независимого художника произошло именно в Первом кадетском корпусе, в чём немалую роль сыграл учитель рисования.
Учитель
Он сразу заметил талантливого мальчика. На первом уроке раздал листы бумаги и предложил каждому нарисовать то, что ему больше хочется. Александр ловко и привычно нарисовал скачущих всадников да ещё и «локомотив в три четверти». Учитель выразил удовлетворение. «Наброски в моих тетрадях интересовали его больше, чем рисунки в классе, и я всё больше рисовал в черновиках». Тогда учитель попросил офицера-воспитателя не скупиться на черновые тетради для мальчика, а он просил их всё чаще и чаще. Рисовал в них любимые сказки. Что это были за рисунки, к каким сказкам – знать нам это, к сожалению, не дано.
Когда же Александр подрос и рука его окрепла, ему разрешили, как особо одарённому, рисовать гипсы в одном из музейных помещений. Он приходил туда по вечерам раз в неделю на два часа. В нетопленном зале добрую четверть часа дышал на пальцы, онемевшие от холода, и лишь потом брался за карандаш. Ему нравилось рисовать гипсовых богинь – они пленяли подростка очарованием «отвлечённой женственности, такой чужеземной…»
На уроках ему трудно было освободиться от академического рисунка с гипсовых фигур – учитель не использовал обязательный академический натурный метод обучения (до сих пор практикующийся). Дети не срисовывали мёртвую натуру – ни гипсовые фигуры, ни чучела птиц и зверей, красовавшиеся в художественном классе. Он желал развить в детях наблюдательность, визуальную память, воображение и новаторски – для того времени – основывался на постепенно меняющемся восприятии реального мира, которое возможно лишь при развитой памяти. Её-то учитель неустанно тренировал. «Он сочетал три метода обучения, все – изобретённые им самим», – пишет Алексеев.
С превеликим удовольствием вспоминал художник эти занятия. Они становились для него игрой. На одном из уроков учитель попросил согнуть листы на две части и нарисовать или написать красками по памяти скрипку. Через двадцать минут откуда-то она появлялась, и ученикам предлагалось её разглядеть, после чего скрипка пряталась, и они заново её рисовали – вновь по памяти – на другой части листа. Перед концом урока рисунки выставлялись на обозрение. Оживлению не было границ. А однажды учитель принёс дыню. Вначале они тоже нарисовали её по памяти, и дыня получилась похожей у кого на тыкву, у кого на огурец. Потом изобразили дыню с натуры на согнутой стороне листа, чтобы не видеть предыдущий рисунок, а после весёлой выставки дыню дружно съели. Вернувшимся с каникул кадетам учитель предлагал нарисовать по памяти новогоднюю рождественскую ёлку, или пасхальное разговение, или бальные танцы. Александр особенно любил, когда учитель читал вслух и просил иллюстрировать прочитанное. Он ценил рисунки без помарок и проверял тетради с пристрастием. Наброски Алексеева выделял и даже просил их «размножать». «Этот чудесный учитель не одобрял казённые краски и бумагу и покупал нам хорошие на свои собственные средства». Художник вспоминал, что он учил их и каллиграфии, да ещё гусиными перьями. Словом, благодаря учителю рисования развивались в талантливом восприимчивом мальчике самостоятельность подхода к рисунку, зрительная память, сила воображения, энергетически мощно выразившиеся в дальнейшем его творчестве. Алексеев не назвал фамилии «доброго учителя» рисования и лишь упомянул: выглядел он скромно, обыкновенно, «шика в нём не было».
Нам, полагаем, удалось узнать имя этого незаурядного человека, сыгравшего столь значительную роль в судьбе нашего героя. В Послужных списках штатных преподавателей Первого кадетского корпуса, составленных чиновником каллиграфическим почерком, мы нашли имя коллежского советника, преподавателя рисования Ивана Дмитриевича Развольского и краткие о нём сведения [3 - РГВИА: фонд 725, опись № 52, дело 977, л. 87–89 об. ]. Родился он в 1857 году 20 марта, был сыном титулярного советника. Всего лишь состоял слушателем учреждённых при Императорской академии художеств педагогических курсов и получил свидетельство 2-го разряда на право преподавания рисования в средних учебных заведениях с 1881 года (а не закончил Школу изящных искусств, как пишет Алексеев, да такой в Петербурге и не было). Высочайшим приказом (за № 42) 15 сентября 1885 года Развольский определён на службу в Первый кадетский корпус штатным преподавателем рисования с 1 января 189(8? )6 года. В 1887 году произведён в коллежские асессоры, в 1892-м – в надворные советники. В 1895 году произведён в коллежские советники. Награждён орденом Святого Станислава 3-й степени. На документе его подпись: «читал». Преподавал Иван Дмитриевич Развольский во 2-м классе, 2-м отделении, 4-й роте. Было и чистописание, и черчение, и лепка. Кто их вёл – неясно. Развольский упоминается как преподаватель рисования. Послужной список составлен в конце учебного 1896 года. Но учил ли он рисованию Алексеева, поступившего в 1911 году? К нашему счастью, сохранился ещё один документ: «Отчёт об успехах и поведении кадетов 2 класса 2 отделения за 2-ю четверть 1910–1911 года». В нём указано: учитель Развольский пропустил два урока рисования. Вероятно, по болезни. Стало быть, преподавал. Других убедительных примеров у нас нет. Офицер-воспитатель 1 класса 2 отделения полковник Андреев в отчёте в октябре 1910 года писал: «Из предметов учебных особенно заинтересована молодёжь практическими занятиями по естественной истории и уроками рисования». Учитель рисования, как мы уже знаем, внимательно следил за художественным обучением не по годам развитого и сообразительного кадета.
Читать похожие на «Серебряный век в Париже» книги

Серебряный век – русский ренессанс во всех областях культуры, в том числе и в поэзии; великая эпоха, подарившая миру А. Блока, А. Ахматову, О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаеву, В. Маяковского и многих других. Притягательными и нетленными остались ценности, которые провозгласила эта эпоха. Строки этих поэтов по-прежнему до глубины души трогают сердца людей своей искренностью, неподдельностью, тонкостью и глубиной мысли, совершенством формы.
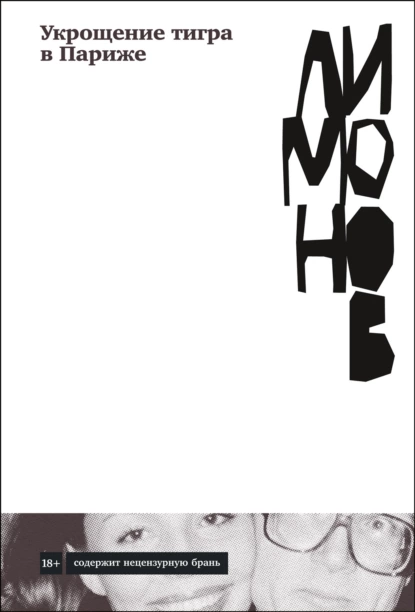
«Писатель привез дикое животное из Лос-Анджелеса. То есть тогда писатель не подозревал, что оно дикое, иначе ни за что не позволил бы себе пригласить эту здоровенную русскую кошку с широкими плечами, грудью, тронутой шрамами ожогов, с длинными ногами в постоянных синяках в свое монашеское обиталище. Увы, писатель открыл, что зверь дикий, а не домашний, слишком поздно». Миниатюрное отчаяние защемило вдруг дыхательные пути коротко остриженного супермена, ибо он внезапно «увидел»
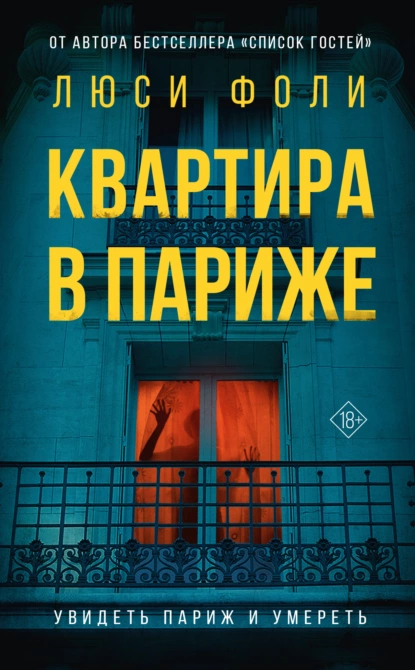
Джесс решает навестить своего брата Бена, надеясь, что каникулы в городе мечты помогут ей выбраться из передряг. Но, прибыв в Париж, она обнаруживает пустую квартиру: ее брат пропал. Джесс сразу подозревает неладное и, в надежде разобраться в случившемся, пытается свести знакомство с соседями Бена. Возможно, им что-то известно? Но за закрытыми дверями таится слишком много секретов. Кажется, все поголовно что-то скрывают. Этот дом как муравейник, разворошишь его, и тебе не поздоровится. Но, быть
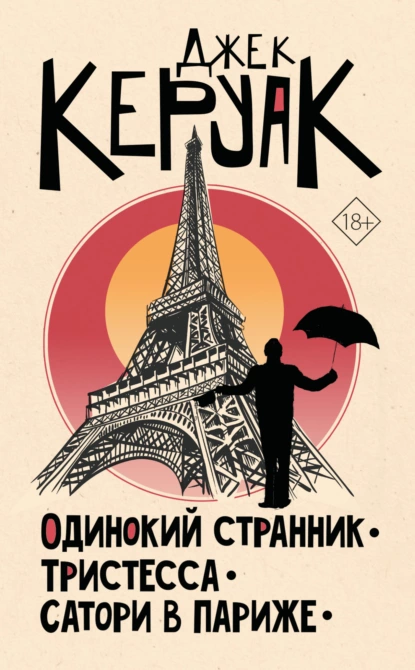
Джек Керуак (Жан-Луи Лебри де Керуак, 1922–1969) – писатель-эпоха, писатель-парадокс, посеявший ветер и не успевший толком узнать, что пожал бурю, не утихшую и в наши времена. Выходец из обедневшей семьи французских аристократов, он стал голосом протестующей американской молодежи и познакомил молодых американских интеллектуалов с буддизмом. Критики высокомерно не замечали его, читатели-нонконформисты – носили на руках. О чем бы ни писал Джек-бунтарь, он всегда рассказывал – упоенно и страстно –

Романтическая история для поклонников Изабелль Брум, Элизабет Гилберт и Хелен Рольф. Нина самая младшая в семье, поэтому каждый считает своим долгом дать ей совет и спасти от всех неприятностей в мире. Но девушке пора расправить крылья. У нее появляется уникальная возможность осуществить свою мечту: Себастьян, лучший друг ее брата, ищет помощницу, чтобы открыть кондитерскую в Париже. Вот только Нина когда-то была влюблена в Себастьяна. Смогут ли они работать вместе? Девушка решает рискнуть и
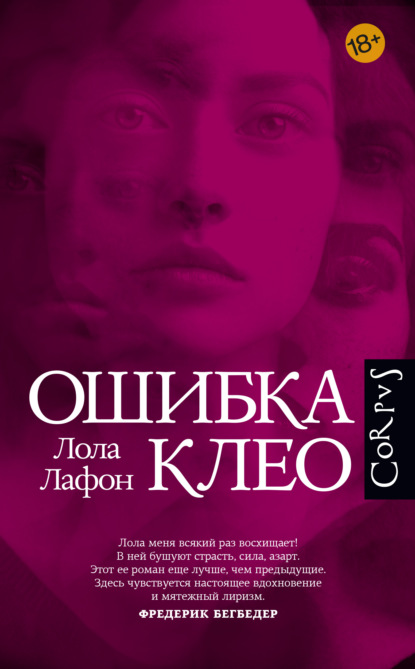
Лола Лафон – известная французская писательница и певица, лауреат многочисленных литературных премий. Первый ее роман в 2003 году опубликовал Фредерик Бегбедер, по сей день не устающий восхищаться ее талантом. «Ошибка Клео» – шестой по счету успешный роман Лолы Лафон, история танцовщицы, попавшей в детстве в сети педофилов. Двенадцатилетняя Клео страстно мечтает танцевать на сцене. Однажды в детскую хореографическую студию, где она занимается, приходит красивая молодая женщина и предлагает

Трогательная и искренняя история о девушке, которая бросила привычную московскую жизнь и начала ее с чистого листа в Париже! Эта книга о самом романтичном городе мира, о больших целях и мечтах, о тернистом пути навстречу счастью и любви. Вместе с Анной Мулен отправляйтесь в незабываемое путешествие и почувствуйте невероятную атмосферу Парижа!
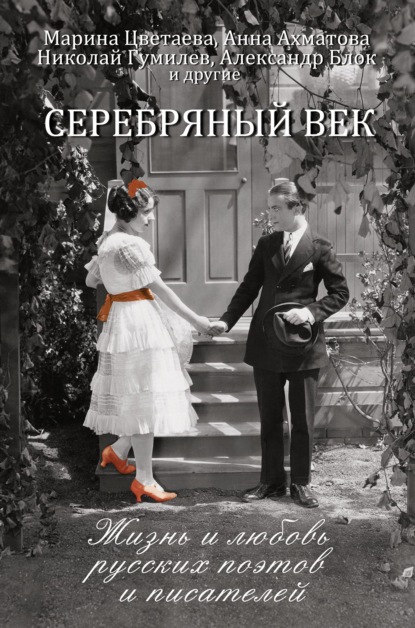
Перед Вами сборник литературных портретов известных пар Серебряного века: Марина Цветаева и Сергей Эфрон, Александр Блок и Любовь Менделеева, Анна Ахматова и Николай Гумилев, Ася Тургенева и Андрей Белый, Максимилиан Волошин и Маргарита Сабашникова, Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Сергей Есенин и Айседора Дункан. Они не только вписали свои имена в историю русской культуры, но и показали, как любовь побуждает к творчеству и ведет к новым
