iPhuck 10 - Виктор Пелевин
iPhuck 10
– Но так было всегда, – сказал я. – В смысле с искусством и капиталом. Рембрандт там. Тициан какой-нибудь. Их картины покупали. Поэтому они могли рисовать еще и еще.
– Так, но не совсем, – ответила Мара. – Когда дикарь рисовал бизона на стене пещеры, зверя узнавали охотники и делились с художником мясом. Когда Рембрандт или Тициан показывали свою картину возможным покупателям, вокруг не было кураторов. Каждый монарх или богатый купец сам был искусствоведом. Ценность объекта определялась непосредственным впечатлением, которое он производил на клиента, готового платить. Покупатель видел удивительно похожего на себя человека на портрете. Или женщину в таких же розовых целлюлитных складках, как у его жены. Это было чудо, оно удивляло и не нуждалось в комментариях, и молва расходилась именно об этом чуде. Искусство мгновенно и без усилий репрезентировало не только свой объект, но и себя в качестве медиума. Прямо в живом акте чужого восприятия. Ему не нужна была искусствоведческая путевка в жизнь. Понимаешь?
Я неуверенно кивнул.
– Современное искусство, если говорить широко, начинается там, где кончается естественность и наглядность – и появляется необходимость в нас и нашей санкции. Последние полторы сотни лет искусство главным образом занимается репрезентацией того, что не является непосредственно ощутимым. Поэтому искусство нуждается в репрезентации само. Понял?
– Смутно. Лучше я гляну в сеть, и…
– Не надо, ты там всякого говна наберешься. Слушай меня, я все объясню просто и по делу. Если к художнику, работающему в новой парадигме, приходит покупатель, он видит на холсте не свою рожу, знакомую по зеркалу, или целлюлитные складки, знакомые по жене. Он видит там…
Мара на секунду задумалась.
– Ну, навскидку – большой оранжевый кирпич, под ним красный кирпич, а ниже желтый кирпич. Только называться это будет не «светофор в тумане», как сказала бы какая-нибудь простая душа, а «Orange, red, yellow». И когда покупателю скажут, что этот светофор в тумане стоит восемьдесят миллионов, жизненно необходимо, чтобы несколько серьезных, известных и уважаемых людей, стоящих вокруг картины, кивнули головами, потому что на свои чувства и мысли покупатель в новой культурной ситуации рассчитывать не может. Арт-истеблишмент дает санкцию – и это очень серьезно, поскольку она означает, что продаваемую работу, если надо, примут назад примерно за те же деньги.
– Точно примут? – спросил я.
Мара кивнула.
– С картиной, про которую я говорю, это происходило уже много раз. Ей больше ста лет.
– Как возникает эта санкция?
Мара засмеялась.
– Это вопрос уже не на восемьдесят, а на сто миллионов. Люди тратят жизнь, чтобы эту санкцию получить – и сами до конца не понимают. Санкция возникает в результате броуновского движения вовлеченных в современное искусство умов и воль вокруг инвестиционного капитала, которому, естественно, принадлежит последнее слово. Но если тебе нужен короткий и простой ответ, можно сказать так. Сегодняшнее искусство – это заговор. Этот заговор и является источником санкции.
– Не вполне юридический термин, – ответил я. – Может, лучше сказать «предварительный сговор»?
– Сказать можно как угодно, Порфирий. Но у искусствоведческих терминов должна быть такая же санкция капитала, как у холста с тремя разноцветными кирпичами. Только тогда они начинают что-то значить – и заслуживают, чтобы мы копались в их многочисленных возможных смыслах. Про «заговор искусства» сказал Сартр – и это, кстати, одно из немногих ясных высказываний в его жизни. Сартра дорого купили. Поэтому, когда я повторяю эти слова за ним, я прячусь за выписанной на него санкцией и выгляжу серьезно. А когда Порфирий Петрович говорит про «предварительный сговор», это отдает мусарней, sorry for my French. И повторять такое за ним никто не будет.
– Ты только что повторила, – сказал я.
– Да. В учебных целях. Но в монографию я этого не вставлю, а дедушку Сартра – вполне. Потому что единственный способ заручиться санкцией на мою монографию – это склеить ее из санкций, уже выданных ранее под другие проекты. Вот так заговор искусства поддерживает сам себя. И все остальные заговоры тоже.
– Прямо ложа карбонариев, – сказал я.
– Ну если тебе так понятней, пожалуйста, – улыбнулась Мара. – Любое творческое действие настроенного на выживание современного художника – это просьба принять его в заговорщики, а все его работы – набранные разными шрифтами заявления на прием. По этой скользкой и зловонной тропинке веселая молодежь с первого полюса искусства, теряя волосы и зубы, бредет в омерзительную клоаку второго – доходит, кстати, один из тысячи, остальные спиваются и старчиваются. На первом полюсе распускаются новые цветы, год или два согревают нас своей трогательной глупостью, потом тускнеют, опадают – и отбывают в тот же путь. Так было сто лет назад, Порфирий. И так будет очень долго. Искусство давно перестало быть магией. Сегодня это, как ты вполне верно заметил, предварительный сговор.
– Кого и с кем? – спросил я.
– А вот это понятно не всегда. И участникам сговора часто приходится импровизировать. Можно сказать, что из этой неясности и рождается новизна и свежесть.
– Ага, – сказал я и подкрутил ус. – А почему кто-то один, кто разбирается в современном искусстве, но не участвует в заговоре, не выступит с разоблачением?
Мара засмеялась.
– Ты не понял самого главного, Порфирий.
– Чего?
– «Разбираться» в современном искусстве, не участвуя в его заговоре, нельзя – потому что очки заговорщика надо надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить. Без очков глаза увидят хаос, а сердце ощутит тоску и обман. Но если участвовать в заговоре, обман станет игрой. Ведь артист на сцене не лжет, когда говорит, что он Чичиков. Он играет – и стул, на который он опирается, становится тройкой. Во всяком случае, для критика, который в доле… Понимаешь?
– Примерно, – ответил я. – Не скажу, что глубоко, но разговор поддержать смогу.
– Теперь, Порфирий, у тебя должен возникнуть другой вопрос.
– Какой?
– Зачем я тебе все это объясняю?
– Да, – повторил я, – действительно. Зачем?
– Затем, – сказала Мара, – чтобы тебя не удивило то, что ты увидишь, когда мы начнем работать. Ты будешь иметь дело с весьма дорогими объектами. И тебе может показаться странным, что электронная копия или видеоинсталляция, которую может сделать из открытого культурного материала кто угодно, считается уникальным предметом искусства и продается за бешеные деньги. Но это, поверь, та же ситуация, что и с картиной «Orange, red, yellow». Если, глядя на нее, ты видишь перед собой светофор в тумане, ты профан – как бы убедительно твои рассуждения ни звучали для других профанов. Запомни главное: объекты искусства, с которыми ты будешь иметь дело, не нуждаются в твоей санкции. А санкция арт-сообщества у них уже есть.
Читать похожие на «iPhuck 10» книги
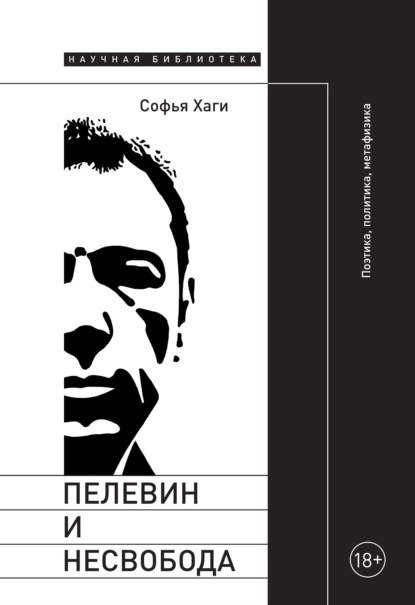
Проза Виктора Пелевина стала выражением сомнений и страхов поколения 1990-х годов, пытавшегося сформулировать и выстроить новые жизненные стратегии на руинах распавшейся империи. Несмотря на многолетний читательский успех, тексты Пелевина долго не становились предметом серьезной литературоведческой рефлексии. Книга Софьи Хаги призвана восполнить этот пробел; в центре внимания автора – философская проблема свободы в контексте художественного мировоззрения писателя. Как Пелевин перешел от
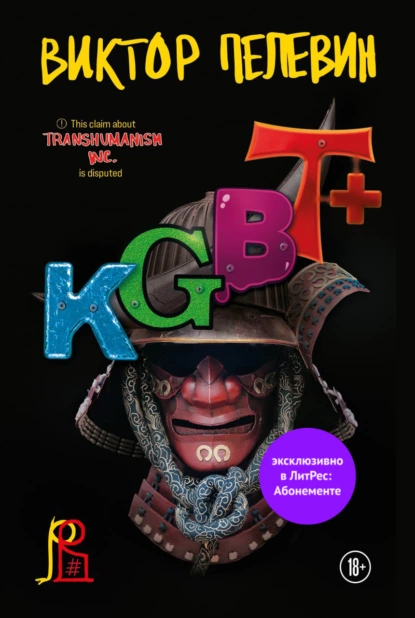
Вбойщик KGBT+ (автор классических стримов «Катастрофа», «Летитбизм» и других) известен всей планете как титан перформанса и духа. Если вы не слышали его имени, значит, эпоха green power для вас еще не наступила и завоевавшее планету искусство B2B (brain-to-brain streaming) каким-то чудом обошло вас стороной. Но эта книга – не просто очередное жизнеописание звезды шоу-биза. Это учебник успеха. Великий вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю. KGBT+ подробно

Татьяна Толстая и Виктор Пелевин, Людмила Улицкая и Михаил Веллер, Захар Прилепин и Марина Степнова, Майя Кучерская и Людмила Петрушевская, Андрей Макаревич, Евгений Водолазкин, Александр Терехов и другие известные прозаики рассказывают в этом сборнике о пугающем детском опыте, в том числе – о своем личном. Эти рассказы уверенно разрушают миф о «розовом детстве»: первая любовь трагична, падать больно, жить, когда ты лишен опыта и знаний, страшно. Детство все воспринимает в полный рост,
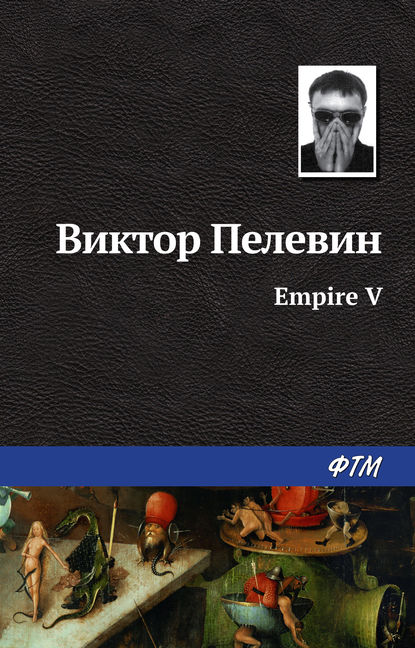
Кто сказал, что миром правит любовь? Миром правят вампиры! И они совсем не похожи на растиражированные Голливудом образы вечно молодых юношей и девушек. Это циничные и опытные мужчины и женщины, представители мировой элиты. И в это высшее общество повезло (или не повезло?) попасть простому парню Роме. Теперь ему предстоит изучить секреты гламура и дискурса, постараться стать одним из них. Но главное в этой книге не сюжет, а фирменный стиль Пелевина: саркастически-фантастическая философия под

Бестселлер Amazon Charts. Узнала одного – знаешь их всех… Этот захватывающий триллер – идеальная смесь «Мертвого озера» Рейчел Кейн и «Внутри убийцы» Майка Омера. Федеральный прокурор вынуждена бороться с жуткими подробностями своего прошлого – и одновременно с худшими страхами перед будущим. У всех нас есть бывший, о котором мы сожалеем. Но бывший муж прокурора Джессики Ярдли – вот это настоящий кошмар. Он – печально известный серийный убийца Эдди Кэл, уже четырнадцать лет сидящий в тюрьме в
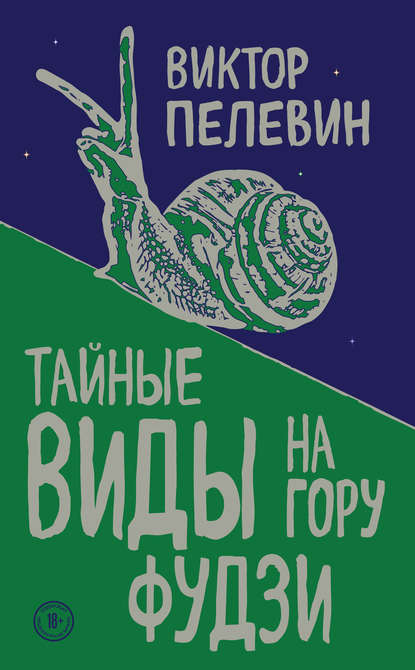
В этом романе Виктор Пелевин поднимает две любимых темы – о Древнем Востоке и нынешней России. Писатель мастерски изображает различные явления нашей действительности, а также пытается постичь извечную проблему всего человечества – постоянную погоню за счастьем. В книге, богатой афоризмами и аллюзиями, вы найдете неподражаемую сатиру на олигархов и сколковских стартаперов. Насладитесь тонким юмором и забавными словесными формулировками. Восхититесь неповторимостью сюжета и отточенностью
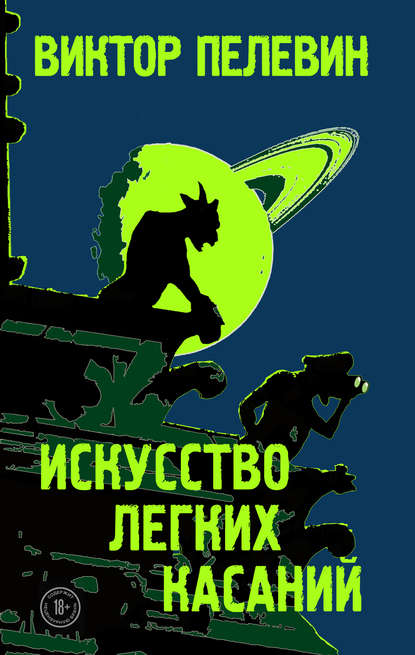
«Искусство легких касаний» – сборник повестей, две первые истории которого объединены ницшеанской идеей о смерти бога. Третья часть – сиквел к роману Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», в котором писатель продолжает рассуждение о возможности счастья отдельного человека. Первая повесть «Иакинф» напоминает ранние вещи автора: просто, динамично и без двойного дна. Журналист, биржевой брокер, оконщик и социолог – четверо друзей-хипстеров отправляются в путешествие по Северному Кавказу в

Перед вами вторая часть романа «Непобедимое солнце» культового российского писателя Виктора Пелевина. Саша – привлекательная тридцатилетняя блондинка, из тех современных столичных девушек, что понемногу занимаются всем и ничем конкретно. И все же есть в ней кое-что необычное – она мечтает познать тайны мироздания. Пару лет назад, путешествуя по Индии в поисках истины, Саша получила загадочное обещание от верховного божества Шивы на горе Аруначале. Для дальнейших действий героине не хватало лишь

Перед вами первая часть романа «Непобедимое солнце» культового российского писателя Виктора Пелевина. Sol Invictus. Древний римский культ поклонения богу солнца, бытовавший в начале нашей эры. Сиятельные императоры с коронами из солнечных лучей. Гелиогабал, Аврелиан, Каракалла, Митра и Сол. Какое отношение они имеют к реалиям XXI века: пандемии коронавируса, борьбе с расизмом, виртуальной реальности, феминизму и другим злободневным темам? Искать ответ на этот вопрос, как ни странно, предстоит

