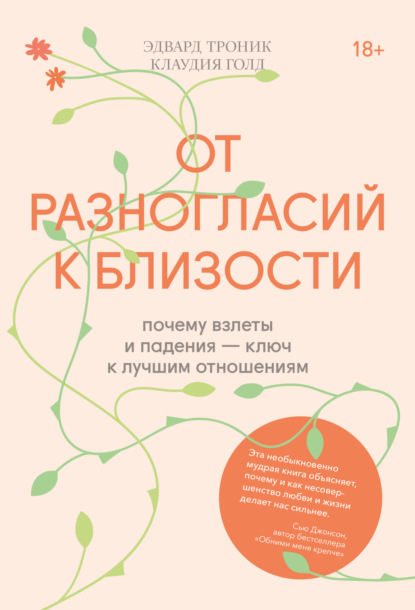От разногласий к близости - Клаудия Голд
От разногласий к близости
В течение дня мы, сами того не осознавая, неоднократно демонстрируем «каменное лицо» другим людям, выражая неудовольствие или отторжение от членов семьи, друзей, врагов и даже незнакомцев. И нам его тоже демонстрируют. Обычно это выглядит не так драматично, как во время эксперимента. Как правило, мы делаем «каменное лицо» неосознанно, другие тоже обращают его к нам не нарочно. И тем не менее такое застывшее выражение входит в репертуар выражений лица каждого человека.
В 1972 году впервые проведенный мной эксперимент «Каменное лицо» послужил началом революционных открытий. Незадолго до того я стал преподавателем Гарвардской медицинской школы и, обустраивая свою лабораторию, вынашивал одну идею. Я полагал, что младенец намного активнее участвует во взаимоотношениях «родитель – дитя», чем было принято думать в то время. И психиатры, и психологи давно пришли к выводу, что младенцы имеют прочные связи с теми, кто больше других заботится о них, а разрушение этих связей негативно сказывается на ребенке, но главная роль в этих взаимоотношениях отводилась поведению матери. Была ли она последовательна и постоянна в своих реакциях или отвлекалась и становилась эмоционально недоступной? Было ли ее поведение непредсказуемым и непонятным для ребенка? И никто не обращал внимания на роль младенца. Считалось, что связь эта односторонняя, от матери к ребенку, а он просто получает то, что ему дают. Но, поработав с Томасом Берри Бразелтоном, я понял, что новорожденные обладают потрясающей социальной компетентностью, и начал подозревать, что прежний подход был неверным.
Как психолог-экспериментатор, я решил проверить свою гипотезу опытным путем. Проигрывал разные варианты – мать не смотрела на ребенка, хмурилась, не разговаривала с ним, – однако все они не казались убедительными или нарушали чистоту эксперимента. А потом пришел к следующей мысли: мать вообще не должна реагировать на малыша, и это стало большим потрясением. Как я и предполагал, реакция ребенка оказалась очень выразительной. Я был поражен тем, сколь многое младенец может поведать о том, что с ним происходит. (Хотя изначально в исследованиях принимали участие матери, однако, читая эту книгу, вы поймете, что то же самое относится и к отцам, и к другим близким малышу членам семьи. )
Основываясь на полученных ранее знаниях, я предполагал, что, когда мать в эксперименте «Каменное лицо» по моей просьбе отвернется, малыш просто продолжит смотреть на ее затылок. Он не станет призывать ее, не попытается каким-то образом заставить снова повернуться к нему, не выразит возмущения – просто ничего не будет делать.
В первом эксперименте принимали участие семь матерей с младенцами от одного до четырех месяцев. Результат у всех семи пар, или диад, оказывался одинаковым. Когда матери отворачивались, малыши прибегали к целому набору трюков: улыбались, гулили, на что-то показывали, кричали, плакали, пытаясь снова привлечь внимание матери.
В зависимости от возраста ребенок мог использовать уже знакомые ему приемы. Ничему особенному его не учили. Девочке, участвовавшей в эксперименте, – именно эта версия получила большинство просмотров на YouTube – было 11 месяцев. В первоначальных экспериментах схожая реакция запечатлена у младенцев в возрасте одного месяца, а в некоторых случаях замечена даже у новорожденных. Этих малышей не обучали никаким социальным навыкам. Стремление к контакту было присуще им от рождения и проявлялось в самых ранних взаимоотношениях. Требование двухсторонней связи было присуще младенцам изначально.
Подобная реакция свидетельствует как минимум о двух фактах. Во-первых, ранее распространенное в психологии представление о том, что общением с ребенком управляет мать, а ребенок лишь пассивный его участник, было ложным. Напротив, ребенок оказался чрезвычайно активным, прилагающим огромные усилия к тому, чтобы заставить мать снова общаться с ним. Всего лишь один эксперимент разрушил одну из наиболее распространенных в современной психологии посылок, поэтому теории, которые на ней строились, следовало полностью пересмотреть. Во-вторых, оказалось, что психологи совершенно упустили из виду продолжительный период развития человеческого «я» – об этом они вообще ничего не знали.
Кроме прочего, эксперимент поднял массу вопросов. Что происходило во время общения? Каковы последствия слишком отдаленной – или слишком тесной – связи между матерью и ребенком? Как долго дитя может переносить нарушение такой связи? Когда ребенок просто сдается и прекращает попытки восстановить ее? Через пять минут? Десять? А может быть, ему требуется столько же времени, сколько и матери, – на то, чтобы, услышав звонок, спросить, кто пришел, и открыть дверь? Что можно считать нормой? Этого мы не знали.
Мы с коллегами по Гарварду экспериментировали с «Каменным лицом» в течение нескольких лет. Расширив эксперимент, вовлекли в него детей постарше и даже взрослых. Мы попросили их вести себя так, как если бы они были парой «мать – дитя», и в результате узнали много нового. Взрослые, игравшие роль ребенка, отмечали, что их охватывали паника, гнев и беспомощность. Взрослые в роли матери упоминали чувства вины и тревоги. Некоторые даже просили у «ребенка» прощения.
Эксперимент с участием взрослых продемонстрировал фундаментальную важность социальной связи. Стремление к ней коренится в нашей эмоциональной сущности. Даже если участники эксперимента знали, что происходит – а обоим взрослым заранее рассказывали об этом, – они все равно переживали сильную эмоциональную реакцию. Чувства, испытываемые взрослыми в роли ребенка, столкнувшимися с эмоциональной обструкцией, судя по всему, совпадали с чувствами реальных детей в такой же ситуации. Взрослые в роли матерей тоже были расстроены. «Это он заставил меня так поступить», – порой говорили они игравшим роли детей взрослым и указывали на экспериментатора, то есть на меня. Реальные матери радовались, наблюдая реакцию своих малышей, и, хотя часто говорили: «А я даже не представляла, что он так хорошо меня узнаёт», эксперимент им все равно не нравился. Но, в отличие от игравших роли взрослых, у этих матерей не было возможности объясниться с детьми.
К 1975 году я еще не совсем понимал значение полученных результатов, однако был уверен, что столкнулся с чем-то важным, и потому решил обнародовать данные экспериментов. Я с трепетом готовился представить полученные результаты на ежегодной конференции Общества исследований развития детей – профессиональном сообществе детских психологов-клиницистов и исследователей. Как отреагируют на мои открытия они?
Это был смелый шаг, и я очень волновался. Мне было 32 года, и до того момента моя карьера в области психологии развития ребенка была вполне благополучной.
На плечах гигантов
Мне повезло: исследовательской работой я начал заниматься в 1965 году в лаборатории Гарри Харлоу, одного из лидеров психологии развития. К тому времени он практически вышел в отставку, и в лаборатории появился новый директор, однако влияние Харлоу чувствовалось во всем. В 1950-х годах, будучи профессором психологии в Университете Висконсина, он сделал знаменитое и отчасти противоречивое заявление о том, что намерен изучать любовь. Начал Гарри с темы, занимавшей психиатров и психологов со времен Зигмунда Фрейда, – взаимоотношений матери и ребенка. В те годы специалисты широко обсуждали теорию привязанности, за которую следовало бы поблагодарить британского психолога Джона Боулби. Он считал, что психологически здоровый, хорошо адаптированный ребенок – это результат крепкой эмоциональной связи между ним и матерью. Но, по его утверждению, верно и обратное: если между матерью и ребенком не развивается крепкая привязанность, то у последнего непременно возникнут проблемы.
Читать похожие на «От разногласий к близости» книги
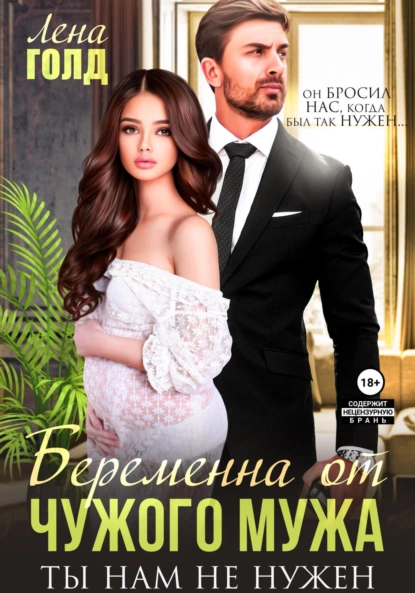
— Ты действительно женат? — Рахманин кивает. — Тогда почему скрыл? Зачем я тебе, если у тебя есть семья, Камиль? — Мозги ты мне запудрила, — выдает жестко, не моргнув глазом. — Обманулся твоей красотой и чуть не лишился жены с ребенком. — А если бы я была беременна? Ты наплевал бы на нас, верно? — Сделала бы аборт, и на этом поставили бы жирную точку, — Рахманин скользит по мне насмешливым взглядом. — Я не готов жертвовать семьей ради тебя. Ты того не стоишь, Дилара. Проваливай и больше не

Мой муж выгнал меня из компании, которую я вела несколько лет. Не появляется дома, ведёт себя отстраненно не только со мной, но и с нашим пятилетним сыном. И не скрывает того факта, что изменяет мне. Выдержу ли я этот удар очередной раз? *** — Ты мне изменяешь! — отчаянно кричу, позабыв, что в соседней комнате спит наш пятилетний сын. А муж, черт возьми, молчит! Поджимает губы и молчит! — Что ты несешь, Лера? — выговаривает после длительной паузы. — Ты мне изменяешь, Рамиль! Вышвырнул из

Наверняка и вы ставили цели, но не смогли выполнить и половины. В этой книге собрана тысяча необычных дел – так называемый Lifelist – для отношений, карьеры, творчества и финансов на пути к вашей лучшей жизни, каждое из которых приведёт вас к исполнению мечты, поможет найти любимое занятие или испытать ярчайшие эмоции. Вы обязательно найдёте для себя что-то новое или прокачаете полезные навыки. Если при изучении этого списка вам встретятся незнакомые слова, не пропускайте их, а найдите способ
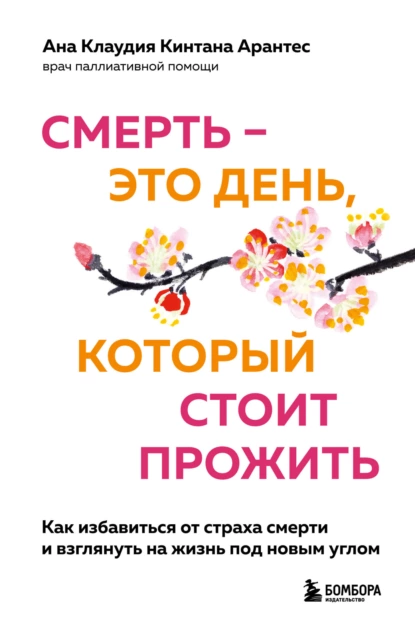
Несмотря на то что сегодня мы живем в условиях, когда медицина способна существенно продлевать человеческую жизнь, даже самые передовые технологии никого не защитят от смерти. Что такое паллиативная помощь и какое место она занимает в медицине? Ана Клаудия Кинтана Арантес в своей книге «Смерть – это день, который стоит прожить» открывает читателям мир паллиативной медицины – особой области, занимающейся уходом за пациентами, которые завершают свою жизнь. Она делится личной историей о том, как

Любовь к природе - это прекрасно. Но в этом городке природа тоже любит людей.