Исторические корни волшебной сказки - Владимир Пропп

- Автор: Владимир Пропп
- Серия: #экопокет
- Жанр: культурология, литературоведение
- Теги: психологические исследования, русская культура, русский фольклор, устное народное творчество, филологический анализ, филология, фольклор и мифология
- Год: 1946
Исторические корни волшебной сказки
II. Беда и противодействие
8. Беда. Мы можем следить дальше за развитием событий в сказке. Запрет «не покидать высока терема» неизменно нарушается. Никакие замки, никакие запоры, ни башни, ни подвалы – ничто не помогает. Немедленно после этого наступает беда. Надо только добавить, что посажение детей в столп – элемент не обязательный и что беда наступает иногда с самого начала сказки.
Какая-либо беда – основная форма завязки. Из беды и противодействия создается сюжет. Формы этой беды чрезвычайно разнообразны, настолько разнообразны, что они не могут быть рассмотрены вместе. В этой главе никакого объяснения форм этой беды дано быть не может. Вслед за посажением в столб или темницу, обычно следует похищение. Чтобы изучить это похищение, мы должны будем изучить фигуру похитителя. Основной, главнейший похититель девушек – змей. Но змей выступает в сказке два раза. Он появляется молние носно, уносит девушку и исчезает. Герой за ним отправляется, встречает его, и между ними происходит бой. Характер змея может быть выяснен только из анализа змееборства. Тут только можно получить ясную картину змея и объяснить похищение девушек. Другими словами: для наивного слушателя ход действия и конец есть производное от начала действия. Для исследователя дело может обстоять наоборот: начало есть производное от середины или конца. В то время как начало сказки разнообразно, середина и конец гораздо более единообразны и постоянны. Поэтому начало часто может быть объяснено только из середины или даже из конца. То же относится и к другим видам сказочных начал. Сказка, например, иногда начинается с того, что из дому изгоняются неугодные дети. Это – сказки типа «Морозко», «Баба-яга» и другие. Что это за изгнание, мы сможем установить только тогда, когда будет изучена обстановка, в которую изгнанные дети попадают. Другой вид сказочного начала не содержит беды. Сказка начинается с того, что царь объявляет всенародный клич, обещая руку своей дочери тому, кто на летучем коне допрыгнет до ее окна. Это – один из видов трудных задач. Данная задача может быть объяснена только в связи с изучением волшебного помощника и фигурой старого царя, а помощник обычно добывается в середине сказки. Таким образом, и здесь середина сказки объяснит нам начало ее.
Анализ серединных элементов позволит осветить и вопрос, почему сказка так часто начинается именно с беды, и что это за беда. Обычно к концу сказки беда обращается в благо. Похищенная царевна благополучно возвращается с женихом, изгнанная падчерица возвращается с богатыми дарами и часто также вслед затем вступает в брак. Исследование форм этого брака покажет, каков жених и с чего брак начинается.
Таким образом, мы в нашем исследовании вынуждены перескочить через один момент хода действия и начать наше рассмотрение с середины.
Но уже сейчас мы можем поставить вопрос о том, не кроется ли за этим многообразием какое-то единство. Серединные элементы сказки устойчивы. Похищена ли царевна, изгнана ли падчерица, отправляется ли герой за молодильными яблоками – он во всех случаях попадает к Яге. Это единообразие серединных элементов вызывает предположение, что и начальные элементы при всем их многообразии объединены каким-то единообразием. Так это или нет. мы увидим ниже.
9. Снаряжение героя в путь. В предыдущем разделе мы рассмотрели некоторые виды сказочных начал. Они объединены одной общей чертой: происходит какая-нибудь беда. Ход действия требует, чтобы герой как-нибудь узнал об этой беде. Действительно, этот момент в сказке имеется в очень разнообразных формах: тут и всенародный клич царя, и рассказ матери или случайных встречных и т. д. На этом моменте мы останавливаться не будем. Как герой узнает о беде, это для нас несущественно. Достаточно установить, что он об этой беде узнал и что он отправляется в путь.
Отправка в путь на первый взгляд не содержит в себе ничего сколько-нибудь интересного. «Пошел стрелок в путь-дорогу», «Сын сел на коня, отправился в далекие царства», «Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за тридевять земель» – вот обычная формула этой отправки. Действительно, слова эти не содержат в себе как будто ничего проблематического. Важны, однако, не слова, а важен факт отправки героя в путь. Другими словами, композиция сказки строится на пространственном перемещении героя. Эта композиция свойственна не только волшебной сказке, но и эпопее («Одиссея») и романам; так построен, например, «Дон-Кихот». На этом пути героя могут ждать самые разнообразные приключения. Действительно, приключения Дон-Кихота очень разнообразны и многочисленны, так же как и приключения героев других, более ранних рыцарских полуфольклорных романов (Wigalois и др. ). Но в отличие от этих литературных или полуфольклорных романов, подлинная фольклорная сказка не знает такого разнообразия. Приключения могли бы быть очень разнообразны, но они всегда одинаковы, они подчинены какой-то очень строгой закономерности. Это – первое наблюдение.
Второе наблюдение: сказка перескакивает через момент движения. Движение никогда не обрисовано подробно, оно всегда упоминается только двумя-тремя словами. Первый этап пути от родного дома до лесной избушки выражается такими словами: «Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли». Эта формула содержит отказ от описания пути. Путь есть только в композиции, но его нет в фактуре. Второй этап пути – от лесной избушки в иное царство. Оно отделено огромным пространством, но это пространство берется мигом. Герой через него перелетает. Слетевшая с головы шапка уже оказывается за тысячи верст, когда он хочет за нее хватиться. Опять мы имеем по существу отказ от эпической разработки этого мотива.
Отсюда видно, что пространство в сказке играет двойственную роль. С одной стороны, оно в сказке есть. Оно – совершенно необходимый композиционный элемент. С другой стороны, его как бы совсем нет. Все развитие идет по остановкам, и эти остановки разработаны очень детально.
Для нас нет никакого сомнения, что, например, «Одиссея» более позднее явление, чем сказка. Там путь и пространство разработаны эпически. Отсюда вывод, что статические, остановочные элементы сказки древнее, чем ее пространственная композиция. Пространство вторглось во что-то, что существовало уже раньше. Основные элементы создались до появления пространственных представлений. Мы увидим это более детально ниже. Все элементы остановок существовали уже как обряд. Пространственные представления разделяют на далекие расстояния то, что в обряде было фазисами.
Куда же отправляется герой? Присмотревшись ближе, мы видим, что герой иногда не просто отправляется, а что он до отправки просит снабдить его чем-либо, и этот момент требует некоторого рассмотрения.
Предметы, которыми снабжается герой, очень разнообразные: тут и сухари, и деньги, и корабль с пьяной командой, и палатка, и конь. Все эти вещи обычно оказываются ненужными и выпрашиваются только для отвода глаз. Изучение покажет, что, например, конь, взятый из отцовского дома, не годится и обменивается на другого. Но среди этих предметов есть один, на который стоит обратить особое внимание. Это – палица. Палица эта железная, она обычно требуется до отправки героя в путь: «Скуйте-ка мне, добрые молодцы, палицу в пять пудов» (Аф. 104d). Что это за палица? Чтобы испытать ее, герой бросает ее в воздух (до трех раз). Из этого можно бы заключить, что это – дубина, оружие. Однако это не так. Во-первых, герой никогда не пользуется этой взятой из дома палицей как дубиной. Сказочник о ней в дальнейшем просто забывает. Во-вторых, из сличений видно, что герой берет с собой железную палицу вместе с железной просфорой и железными сапогами. «Иванушка сходил к кузнецу, оковал три костыля, испек три просфоры и пошел разыскивать Машеньку» (См. 35). Улетающий Финист говорит девушке: «Если вздумаешь искать меня, то ищи за тридевять земель, в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков износишь, три посоха чугунных изломаешь, три просфоры каменных изгложешь, чем найдешь меня». (Аф. 129а). То же говорит жена-лягушка: «Ну, Иван-царевич, ищи меня в седьмом царстве, железные сапоги износи и три железных просфоры сгложи» (Аф. 150b).
Читать похожие на «Исторические корни волшебной сказки» книги
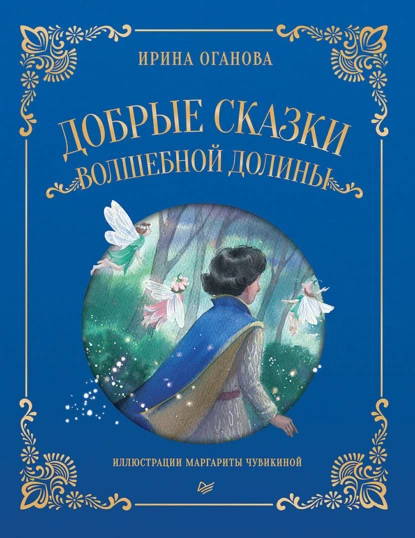
Дорогой собиратель чудес! Распахни обложку этой книги – и перед тобой раскинется Волшебная долина! В ней живут прекрасные принцы и капризные принцессы, коварный король и заботливая мать-королева, добрая сердцем дурнушка Эльза, эльфы, исполняющие желания, и хитрые старушки-колдуньи. В Волшебной долине возможны любые чудеса, особенно если они творятся руками людей! Перед вами сборник сказок знаменитой петербургской писательницы Ирины Огановой. Ваши дети не меньше, чем взрослые, полюбят эти

Почти прибыльное заведение, сказала она. Всего лишь год, сказала она. А потом отпущу с миром и с наградой… Не верьте благообразным дамочкам по утрам! Вообще не верьте дамочкам! Не подписывайте мутных договоров, даже если вам предоставят магический перевод! Не нанимайте оборотня охранником! А главное… Не влюбляйтесь без памяти в глубоко положительного мужчину. Даже если он смотрит, как будто съесть готов. Ну, или хотя бы пожевать!

Я открыла музыкальный салон вместо дома удовольствий – это плюс. Я потеряла любимого мужа и рискую потерять свободу, а то и жизнь за убийство, которого не совершала (хотя очень хотелось) – это минус. Что в планах? Оправдать себя, отстоять салон, найти убийцу модисток и как-то сохранить баланс с Митькой Полуяном, который настоятельно пытается превратить нашу дружбу в более интимные отношения. А тут ещё мной интересуется очень странный господин, а зачем – непонятно. Мне осталось тянуть лямку

Слово морфология означает учение о формах. В ботанике под морфологией понимается учение о составных частях растения, об их отношении друг к другу и к целому – иными словами, учение о строении растения. О возможности понятия и термина морфология сказки никто не думал. Между тем в области народной, фольклорной сказки рассмотрение форм и установление закономерностей строя возможно с такой же точностью, с какой возможна морфология органических образований. Если этого нельзя утверждать о сказке в

В эту уникальную книгу Владимира Ивановича Даля, писателя, собирателя фольклора, автора «Толкового словаря великорусского языка», вошли самые знаменитые народные сказки, песенки, загадки, пословицы, поговорки и игры. Этот сборник составил историк детской литературы, знаток творчества Владимира Ивановича Даля, Иван Игнатьевич Халтурин. Народная мудрость, смекалка, богатство родного языка, знаменитые герои и великолепные иллюстрации Анны Власовой – всё это вы встретите в книге «Старик-годовик»,

Предательство любимого мужа и лучшей подруги способно убить. А вот меня перенесло в другой мир – через ледяной канал к солнечному теплу и сладкому винограду. Я сумела выжить и даже стала хозяйкой волшебной лозы. Но как уберечь себя от чужих интриг, а свое сердце от надменного герцога, который снится по ночам?

Как стать прекрасной не только в постели, но и на кухне? Почему у одной женщины тесто получается пышным и дышащим, а у другой – квёлым и плотным? Есть ли тайные ингредиенты, которые придают блюду колдовскую силу? Обязательно ли готовить самой, чтобы соблазнить и удержать мужчину? Вы познаете науку соблазнения мужчины с помощью еды. Возьмёте на вооружение кулинарные секретики и тайные ингредиенты. Откроете для себя мир кулинарии, несущий вдохновение и творчество. И тогда обычная пища превратится
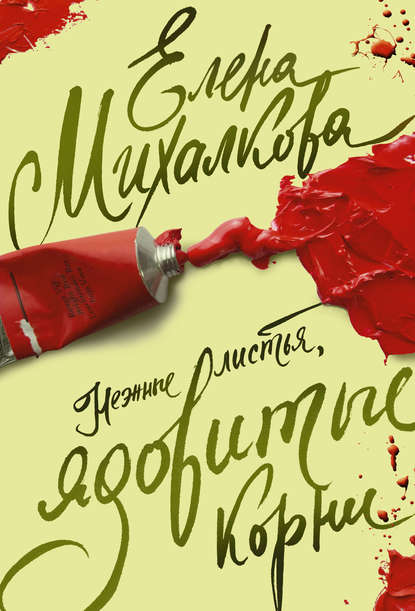
Ах, милое детство, школьные годы! Безмятежность, первая любовь, подруги, ставшие лучшими на всю жизнь. Как бы не так! Если в вашем классе была признанная королева, ее «подданным» жилось несладко. Идут годы, вы меняетесь – но память о школьной травле сидит тонкой занозой. Особенно если обидчица и сейчас хороша собой, успешна и счастлива. И желание отомстить, растоптать ее жизнь, как когда-то она топтала вашу, поднимает змеиную голову. Первая красавица Света Рогозина собирает бывших одноклассниц

Владимир Яковлевич Пропп – выдающийся отечественный филолог, один из основоположников структурно-типологического подхода в фольклористике, в дальнейшем получившего широкое применение в литературоведении. Его труды по изучению фольклора («Морфология сказки», «Исторические корни волшебной сказки», «Русский героический эпос», «Русские аграрные праздники» и др.) вошли в золотой фонд мировой науки ХХ века. Книга «Русский героический эпос» (1955) оказалась первым и до сих пор единственным

Новая книга от авторов бестселлеров и признанных экспертов по воспитанию детей Дэниела Сигела и Тины Брайсон. Все родители знают, что привязанность – основа воспитания здорового, счастливого и самостоятельного ребенка. Но как создать эту крепкую нерушимую связь? Сигел и Брайсон уверены: доверительные отношения с ребенком могут построить даже самые занятые родители. Собрав данные последних научных исследований, они определили 4 условия формирования здоровой привязанности: безопасность ребенка,
