Копья и пулеметы - Александр Бушков

- Автор: Александр Бушков
- Серия: Бушков. Непознанное, Остров кошмаров
- Жанр: популярно об истории
- Теги: исторические версии, исторические исследования, исторические события, история Англии, колонизация, мифы истории
- Год: 2021
Копья и пулеметы
Теперь мы вернемся в Англию – уже окончательно. В 1802 г. там в рамках развития гуманизма произошло знаковое, выражаясь современным языком, событие: с Лондонского моста убрали железные колья, на которых вплоть до этого времени торчали головы казненных. Что примечательно, против этого громче всего протестовали не какие-то тупые лавочники, а интеллектуалы высокой пробы – Сэмюэль Джонсон и его биограф доктор Босуэл. «Высоколобые» полагали, что такая «наглядная агитация» служит нравоучительным целям и, как сказали бы мы сегодня, профилактике преступлений (в чем оба глубоко и добросовестно заблуждались – во многих странах давно подметили, что наибольшее число карманных краж совершалось в толпе, собравшейся поглазеть на очередную казнь, в том числе и на то, как вешают карманника)…
К слову: в «отсталой и варварской» России колья, на которых выставляли головы и руки-ноги казненных, убрали с городских площадей еще в 1729 г. Но все равно по уровню гуманизма мы далеко отстали от цивилизованной Англии (так считают иные отечественные либералы, но убедительно прошу автора этих строк к ним не причислять).
Однако казни за государственную измену происходили и в начале XIX в. в строгом соответствии с процедурой, применявшейся еще лет шестьсот назад. В 1807 г. полковника Деспарди и нескольких его друзей казнили по средневековым правилам: подвесили не до смерти, сняли, выпотрошили, отрубили головы, а тела четвертовали. Вся их «государственная измена» состояла в том, что они то ли за бутылочкой, то ли в нетрезвом виде вели разговоры, признанные судом «антиправительственными». И только! Не то что заговора не замышляли, но и листовки не собирались печатать…
Только в 1837 г. , когда на английский трон взошла юная королева Виктория, убрали с площадей позорные столбы и колодки. Как с явной иронией комментирует написавшая об этом Екатерина Коути, «под ропот горожан, которые недоумевали, что же теперь делать с гнилыми овощами и фруктами». И далее она упоминает, что в некоторых глухих уголках (как случается не в одной Англии) эта процедура еще не один год была в ходу. В корнуольском городке Труро местная газета писала в номере от 4 октября 1844 г. : «В прошлый понедельник мы стали свидетелями омерзительного зрелища: двух старух, печально известных пьяниц, на шесть часов оставили в колодках на Боскавен-стрит перед рыночными воротами. Одна из них спокойно сидела на рассыпанной соломе, подперевшись подушкой, и вязала, не обращая внимания на собравшуюся толпу. Зато вторая старуха, у которой не нашлось подушки и которая вдобавок страдала от болей в ногах, не прекращала рыдать».
Ну что же, смягчение нравов (говорю это без малейшей иронии) налицо: газетчик уже называет подобное зрелище «омерзительным». А четыре года спустя такому же наказанию подвергли уже не старуху, а молодую девицу, некую Элис Мортон, тоже любительницу заглянуть в бутылочку. Чтобы не платить штраф за пьянство, она сбежала из города, но потом неосмотрительно вернулась – и по приказу мэра, явно ретивого борца за трезвость, ее тоже выставили в колодках на всеобщее обозрение на несколько часов. Газеты возмущались и осуждали мэра, но его это, похоже, нисколечко не трогало…
(Пользуясь случаем, хочу представить Екатерину Коути тем, кто с ней не знаком. Наша соотечественница, живущая в США. Окончила университет Колорадо по специальности «Английская филология» и магистратуру Техасского университета по специальности «Сравнительная литература». В последние годы я, к некоторому стыду своему, не имел о ней никаких сведений, но еще в 2013 г. она преподавала в американских вузах русский язык и вела популярный блог о викторианской Англии и фольклоре. Автор нескольких интереснейших книг по истории Англии и суевериях Викторианской эпохи. В книге с характерным названием «Недобрая старая Англия» обстоятельно знакомит читателя с «изнанкой жизни» и темными сторонами «оплота парламентской демократии и свобод». )
Правда, в XIX в. уже не применяли распространенную в прошлом столетии разновидность смертной казни, именовавшуюся «подвешиванием в клетке» – пожалуй, самая страшная разновидность английской «вышки». Даже казнь за государственную измену при всем ее зверстве была ограничена во времени и занимала в лучшем случае несколько часов. А эта растягивалась на несколько суток. Человека подвешивали в железной клетке высоко на дереве где-нибудь у большой дороги – видимо, опять-таки в целях «наглядной агитации». Клетка, правда, была не кубическая, как в известном фильме с Рутгером Хауэром «Плоть и кровь», – состояла из железных полос, не сплошных, повторявших очертания человеческого тела и головы. Руки оставались свободными, но пользы казнимому от этого никакой – клетка состояла из толстых, надежно склепанных железных полос. Подвешивали и оставляли так, предоставляя смертнику умирать самому от голода и жажды…
Последний известный мне (опять-таки благодаря Екатерине Коути) случай относится к 1777 г. Известного разбойника Джона Уитфилда за убийство на большой дороге путешественника на обочине такой дороги и подвесили. Дело было в области Камбрия, совсем неподалеку располагалась деревушка Уэзэрелл, и ее жители вынуждены были несколько дней слушать жалобные вопли умиравшего медленной смертью Уитфилда. В конце концов над ним сжалился кучер проезжавшей почтовой кареты. В те времена, когда на дорогах во множестве шалили лихие люди, кучера почтовых карет и дилижансов (да и кучера карет частных) были поголовно вооружены. Почтарь остановил лошадей и пристрелил бедолагу – на мой взгляд, вполне гуманный поступок.
Не применялось уже в девятнадцатом столетии и сожжение на костре, получившее широкое распространение в веке восемнадцатом – как, впрочем, и в столетия предшествующие. В основном эта казнь применялась к женщинам – тем, кого суд признавал «ведьмами» (к слову, это наказание, пусть и не применявшееся с наступлением XIX в. , официальным образом было отменено только после Второй мировой), а также фальшивомонетчиц и мужеубийц. Последних, как правило, обвиняли в так называемой «малой измене». Государственной изменой считалась измена королю в любой форме, например, участие в мятеже, а малой – «убийство лица, которому виновная должна была хранить верность, то есть мужа. С 1702 по 1734 год в лондонском Тайберне, месте, где публично приводились в исполнение разнообразными способами смертные приговоры, были сожжены 10 женщин. Некоторых палач душил перед казнью специальным приспособлением-удавкой, а некоторых – нет. По всей остальной Англии с 1735 по 1789 г. (! ) сожгли 32 («по меньшей мере», уточняет Екатерина Коути) фальшивомонетчицы и мужеубийцы.
Только в 1820 г. отменили публичную порку женщин, и лишь гораздо позже мужчин – как считается, весной 1831 г. И только в 1898 г. отменили широко распространенное в английских тюрьмах наказание – «ступальное колесо». Заключалось оно в том, что провинившегося ставили на ступеньку-плицу огромного колеса, похожего на то, что приводило в движение водяную мельницу. Под тяжестью тела плица опускалась, человек, чтобы не сломать ноги, вынужден был прыгнуть на следующую – и прыгал так несколько часов. В каждой тюрьме таких колес имелось несколько. Они ни с чем не были соединены и ничего не приводили в движение – просто наказание такое. А в некоторых тюрьмах это было не наказанием, а повседневной процедурой – каждый заключенный по полчаса в день прыгал на колесе.
Читать похожие на «Копья и пулеметы» книги
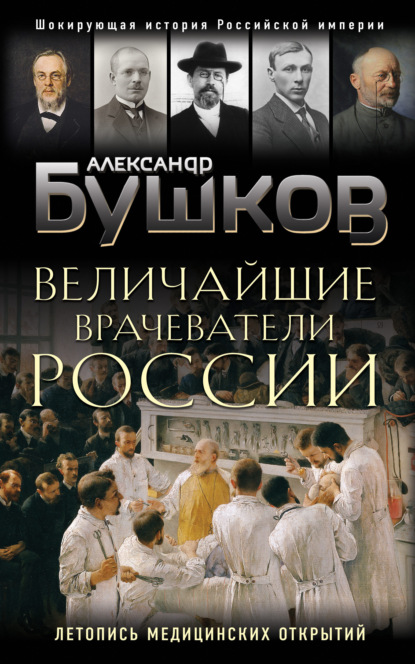
Россия удивила мир ошеломительными успехами в разработке антиковидных вакцин. А чему, собственно, удивляться? Достаточно немного углубиться в историю мировой медицины, чтобы понять – Россия издавна славилась выдающимися медиками, совершившими революционные перевороты во врачебной практике. Например, Николай Васильевич Склифосовский. Генерал от медицины, удивительного мужества человек, совершивший прорыв в развитии военно-полевой хирургии. Известен случай, когда во времена Русско-турецкой войны

Сибирь – едва ли не одно из самых загадочных мест на планете, стоящее в одном ряду со всемирно известными геоглифами в пустыне Наска, Стоунхенджем, Бермудским треугольником, пирамидами Хеопса… Просто мы в силу каких-то причин не рекламируем миру наши отечественные загадки и тайны. Чего стоит только Тунгусский феномен, так и не разгаданный до сих пор. Таинственное исчезновение экипажа самолета Леваневского, останки которого якобы видели в Якутии. Или «закамское серебро», фантастические залежи

Конечно, без машины времени нам никогда не определить точно, когда на нашей русской земле завелись воры, разбойники, пираты и прочие криминальные элементы. Великолепный рассказчик Александр Бушков из малодоступных и малоизвестных источников по крупицам собрал информацию по этой теме. И получилась уникальная книга, единственная в своем роде история самых знаменитых разбойников России. И в этом списке – верьте глазам своим! – Александр Меншиков, единственный в России герцог, любимец Петра, самая

Весной 1945 года, когда до Берлина оставалось уже не так далеко, майор Федор Седых привез в расположение своего батальона девятнадцатилетнюю немку-беженку Линду, поселил ее рядом со своей комнатой и назначил ее своей помощницей. Вопиющий по своей дерзости поступок не остался незамеченным для офицеров СМЕРШа. Однако майор не обращал внимания ни на косые взгляды солдат, ни на строгий приказ Главнокомандующего. Потому что Линда обладала совершенно фантастическими способностями: глядя на человека,
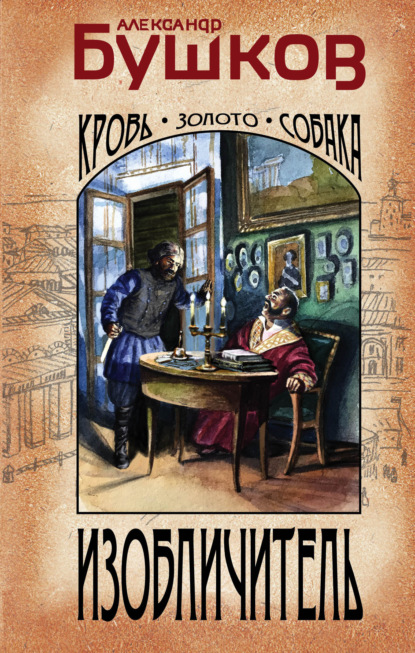
Купец Пожаров обратился за помощью к подпоручику Сабурову, чтобы разобраться, кто из трех его приказчиков ворует из кассы. Взяв в помощники своего денщика Артамошку, Сабуров начал тайно следить за приказчиками и вскоре выяснил, что один из них – Качурин – вовсе не тот, за кого себя выдает. Оказалось, этот тип скрывает, что окончил полный гимназический курс и имеет чин прапорщика. Господа с таким образованием и чином в приказчики не идут. А еще стало известно, что, переодевшись, наклеив усы и

История криминального сыска в России хранит десятки имен гениальных сыщиков, которые буквально творили чудеса. Вот сыщик Гаврило Яковлевич Яковлев, ставший знаменитостью во времена Александра I, наделенный инстинктивным чувством распознавания преступников в толпе по одной их внешности. Вот знаменитый московский сыщик Поляков, которого во времена Николая I именовали «самородком». Или пристав Хотинский, который знал наперечет всех московских воров и адреса всех притонов. А что говорить про Ивана
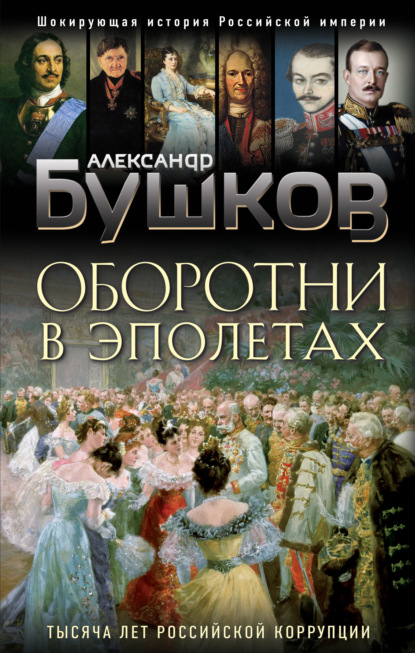
Коррупция – штука въедливая, заразная и многолетняя. Истребить ее подчистую до сих пор не удалось ни одному правителю в мире. Россия, разумеется, в этом плане не сильно отличается от остальных. В самых древних исторических документах, произведениях искусства, живописи и литературы, дошедших до нас, можно при желании обнаружить признаки этой бессмертной заразы. Воровали и мелкие чиновники, и помещики, и дворяне, и приближенные к царской семье вельможи. Увлекались казнокрадством генералы,
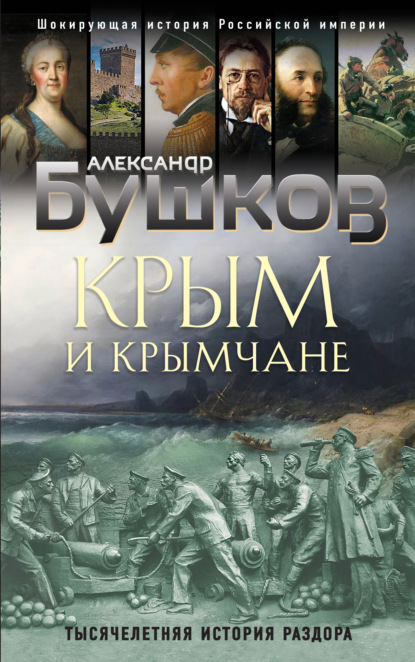
История Крыма никогда не была простой. События последних лет – лишь вершина айсберга. А стоит углубиться немного дальше, и мы увидим, что земли полуострова всегда были лакомым кусочком для всех. Скифы, греки, готы, гунны, печенеги, половцы, монголы, татары, турки и даже итальянцы – кто только не посягал на Крым за последнюю тысячу лет. Александр Бушков вовсе не пытается ответить на вопрос «Чей Крым?». Скорее наоборот. Автор сквозь призму тысячелетней истории старается донести до читателя мысль,

Не все события Великой Отечественной войны поддаются разумному и логическому объяснению, ох не все… Кто знает, что на самом деле таят в себе глухие леса вдоль старых хуторов, куда даже лесники заходить побаиваются? Какие силы в то или иное время влияли на ход сражений? Помогали, мешали, сбивали с толку или просто… присутствовали. Очевидцы и вовсе говорят, что слышали песни Высоцкого, хотя Владимир Семенович на тот момент был еще мальчишкой. Но как такое возможно? Временной разлом? Гости из
