Курсив мой - Нина Берберова
Курсив мой
В кабинете деда, где когда-то сидел Гончаров и, как я понимаю, изучал своего героя, сидела теперь я. К деду ходили по утрам крестьяне, или, как их тогда называли, мужики. Были они двух разных родов, и мне казалось, будто это были две совершенно разные породы людей. Одни мужики были степенные, гладкие, сытые, с масляными волосами, толстыми животами и раскормленными лицами. Они были одеты в вышитые рубашки и суконные поддевки, это были те, что выходили на хутора, то есть выселялись из деревни на собственную землю, срубив новые избы в еще недавно дедовском дремучем лесу. Они в церкви шли с тарелкой, ставили у образа “Утоли моя печали” толстые свечи (хотя какая могла быть у них печаль? ), Крестьянский банк давал им кредит, и у них в избах, где я иногда бывала, стояла на окнах герань и пахло сдобным кренделем из печки. Сыновья у них росли энергичные, они начинали новую жизнь для себя, а для России – в зародыше новый класс.
Другие мужики были в лаптях, ломали шапку, дальше дверей не шли, одеты были в лохмотья, и лица их были потерявшие всякое человеческое выражение. Эти вторые оставались в общине, они были низкорослые, часто валялись в канаве подле казенной винной лавки, и почему-то всегда выходило так, что у них детей было мал мала меньше, баба на сносях или в чахотке, а малыши в коросте, и дома у них (где я тоже бывала нередко) разбитые окна были заткнуты тряпкой, и теленок с курами находился тут же, и пахло кислым, в то время как у степенных и толстых почему-то всегда вырастали ловкие, веселые и работящие сыновья, невестки на загляденье, а когда появлялись внуки, их отсылали в уездный город в реальное училище. Бабушка, конечно, терпеть не могла ни тех, ни других.
Деда, который был всей душой против столыпинской реформы и всецело за общину, видимо, все это часто мучило; сознание, что кругом все еще продолжается трехпольная система, и в амбарах ближайшей деревни все еще молотят цепами, и в некоторых волостях нет других школ, кроме приходских, и что маккормики живут главным образом в Англии, а не в России, видимо, нагоняло на него порою тоску, потому что вдруг, ни с того ни с сего, походив часа два по зале по диагонали, заложив руки за спину, он приказывал закладывать тарантас и уезжал на неделю. Возвращался он как-то незаметно, проходил к себе в кабинет (где спал по тогдашнему обычаю на тахте) и с слегка виноватым видом являлся в столовую. С женой своей он разговаривал мало. Много позже я узнала, что в Новгородской губернии у него была вторая семья: женщина намного моложе него, которую он любил, и трое детей. Я была счастлива узнать об этом.
Мне было десять лет, когда мне в голову пришла странная мысль о необходимости скорейшим образом выбрать себе профессию. Возвращаясь мысленно к этому времени и роясь в ранних событиях моего детства, я могу теперь объяснить (хотя, может быть, только частично) это желание найти себе в жизни дело: года за четыре до этого я совершенно случайно, но с неопровержимой силой узнала, что у мальчиков есть что-то, чего нет у девочек. Это произвело на меня ошеломляющее впечатление, однако ничуть меня не обидело и не привело ни к зависти, ни к чувству обездоленности. Я, впрочем, очень скоро забыла об этом обстоятельстве, и оно – во всяком случае на поверхности – не сыграло роли в моем дальнейшем развитии, но, видимо, застряло в подсознании (или там, где ему полагается быть). В недетской силе едва сформулировавшегося желания иметь профессию “на всю жизнь”, иметь что-то, что могло бы срастись со мной, как рука или нога, и быть частью меня, я теперь вижу некую компенсацию чего-то, чего я, как девочка, была лишена. Я искала не только самую профессию, но и акт выбора ее, акт сознательного решения, и этот акт вырос из неизвестного мне тогда тайника. Теперь я хорошо знаю, что не все решительные и бесповоротные действия мои на протяжении шестидесяти лет были результатом сознательного решения: отъезд из России в 1922 году не был таким результатом, а неотъезд из оккупированной Франции в 1940 году им был. За всю мою жизнь ответственный выбор, имевший значение для моей судьбы и индивидуальности (значение глобальное или тоталитарное), был сделан мной не более четырех-пяти раз, но, признаюсь, каждый раз этот сознательный выбор давал мне сознание силы жизни и свободы, острое ощущение электрического заряда, которое можно назвать счастьем, вне зависимости от того, нес ли этот выбор за собой житейское благополучие или явный ущерб его. И ощущение “электрического счастья” не уменьшалось от того, что выбор мой был частично обусловлен законами времени, то есть законами биологическими и социальными. Я не мыслю себя вне их.
Осуществление первого сильного желания выбрать, решить, найти, сознательно двинуть себя в избранном направлении дало мне на всю жизнь, как я понимаю, чувство победы не данной свыше, но лично приобретенной – не над окружающими, но над собой. И вот я написала на листе бумаги длинный список всевозможных занятий, совершенно не принимая во внимание того обстоятельства, что я не мальчик, а девочка, и что, значит, такие профессии, как пожарный и почтальон, собственно, должны были быть исключены. Между пожарным и почтальоном, среди сорока возможностей, была и профессия писателя (я не придерживалась строго алфавитного порядка). Все во мне кипело, мне казалось, что необходимо теперь же решить, в самом срочном порядке, кем я в жизни буду, чтобы соответственно с этим начать жить. Я смотрела в свой список, словно стояла перед прилавком с разложенным товаром: мир открыт, я вошла в него, ворохом рассыпаны передо мной его ценности. Даром бери! Все твое! Хватай, что можешь! Алфавитный порядок не совсем тверд в уме: мне не совсем ясен тот закоулок, где ять, твердый знак и мягкий знак играют с буквой ы в прятки. Но мир настежь открыт передо мной, и я начинаю лазать по его полкам и ящикам.
И вот, после долгих размышлений, в полном одиночестве и секрете, решение пришло ко мне. И тогда из меня хлынули стихи: я захлебывалась в них, я не могла остановиться, я писала их по два, по три в день, читала их самой себе, Даше, фрейлейн, родителям, знакомым, кому придется. Это суровое чувство профессии всю жизнь уже не оставляло меня, но в те годы оно, мне кажется, было не совсем обычным: ведь в десять лет я играла в игры, норовила увильнуть от приготовления уроков, стояла в углу, колупая штукатурку, – словом, была такой же, как и все дети, но рядом с этим жила постоянная мысль: я – поэт, я буду поэтом, я хочу водить дружбу с такими же, как я сама; я хочу читать поэтов; я хочу говорить о стихах. И теперь, смотря назад, я вижу, что мои две сильные и долгие дружбы были с такими же, как я, пишущими стихи, выбравшими для себя в жизни призвание, прежде чем войти в жизнь. Один расстрелян в годы сталинского террора, другая в сталинском терроре потеряла двух мужей.
Я хорошо помню то лето и поиски профессии. Я решила испробовать все, что возможно, и не терять времени, которым я всегда очень дорожила. Сначала вопрос встал: не быть ли акробаткой? Несколько дней я упражнялась в гимнастике, но мне это очень быстро надоело. Затем я обратилась к естественным наукам и, набрав в банку воды из пруда, целыми часами наблюдала за инфузориями. Но и это показалось скучно. Узнав, что есть люди, которые записывают народные песни, я взяла тетрадку и карандаш и отправилась вечером на дойку. Там девки пели: “Как сегодня горох, да и завтра горох, приходи, моя милая, подоивши коров”. Записать было нетрудно: песня была пропета раз двести, пока не передоили всех коров – а их было немало, потому что дед в эти годы жил главным образом продажей сливочного масла и голландского сыра, который выделывался тут же, в избе, называемой заводом. Но и фольклор не удовлетворил меня, и на меня нашло что-то вроде черной тучи. Я боялась, что меня подымут на смех, а вместе с тем было ясно: я должна была, не откладывая в долгий ящик, найти себе профессию. Я слонялась целыми днями по дому, по саду, по двору, упала в крапиву, была укушена гусем, рыдала на чердаке под кринолинами, но профессия мне не являлась. В этом безутешном состоянии мне попалась “Молитва” Лермонтова. Я переписала ее, подписала ее. Она утешила меня, мне показалось, что я ее сама сочинила.
Читать похожие на «Курсив мой» книги
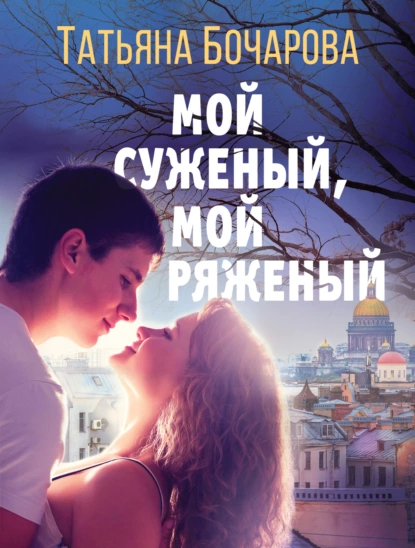
Они такие разные. Она – студентка последнего курса технического вуза, волевая и целеустремленная, привыкшая все делать по плану. Он – лодырь и разгильдяй, с трудом окончивший колледж. Она мечтает о научной карьере, а он не ставит перед собой никаких целей. Общее у них лишь имя: она – Женя Зимина, он – Женька Карцев. И никогда бы их пути не пересеклись, если бы не молодежный любительский хор, в который привела Женю институтская подруга Люба. Девушка и сама не может объяснить странную симпатию к

«Интересно, как долго можно незамеченной просидеть на верхней галерее библиотеки? Если тебя не ищут, наверное, целую вечность, потому что кроме меня в этой самой библиотеке, по-моему, никого и не бывает, а значит, замечать некому. А если ищут?.. – Нисайем!!! О! Не так долго, как хотелось бы. Но, может, он еще мимо пройдет? Серьезно, зачем ему искать меня в библиотеке? Разве ж мне тут место? Уважаемую тэю[1] стоит искать совсем не там. А в оранжерее, например, или в ее комнатах в компании

«Железная женщина» – книга об одной из самых загадочных женщин XX века, Марии (Муре) Закревской-Бенкендорф-Будберг. Ее любили, ей доверяли и посвящали свои сочинения Максим Горький и Герберт Уэллс. Ею был увлечен британский дипломат и разведчик Роберт Брюс Локкарт. Нина Берберова была знакома с этой удивительной персоной, и ее с блеском написанный роман, полный документальных свидетельств и писем, давно стал бестселлером.

«Как только воздушники установили над нами щиты и отвод взора, Яна развеяла свои кибитки, по-прежнему походившие на носорогов. Только ноги у них были подлиннее. И едва коконы исчезли, мне стало понятно, как серьезно магистры приготовились к спасению отшельника. На чахлой травке и камнях остались лежать тюки с одеялами и одеждой, мотки различных веревок, корзины и мешки с продуктами и кухонной утварью…»

«– Окружили, – с легкой усмешкой объявил его светлость лорд Хигверд, а для меня – просто Хирд. В его напускную беспечность я не поверил. Успел заметить презрительную, злую усмешку, на миг искривившую твердые губы. И значит, старший брат был неимоверно взбешён этим наглым, подлым нападением. Ведь означало оно очень многое. Для начала – бесспорность сговора наших недругов. Ещё появление в замке предателя, причем среди тех людей, кому до сих пор мы безоговорочно доверяли. В противном случае враги

Короткая история-зарисовка. Немного реальная и немного нереальная. А я научилась переносить свои чувства к нему на других. Научилась видеть в них его синие искристые глаза, его широкую улыбку. Научилась наслаждаться его теплом, целуя чужие губы. Научилась находиться рядом с ним и быть ему самым лучшим другом.

Я, сари Лексан, возглавляю патруль стражи на границе мира, где вновь сталкиваюсь с ним – человеком, от которого некогда бежала. Смогу ли я взять чувства под контроль? Смогу ли избежать новой боли и предательства? А еще куда пропал третий патруль и что движется из-за неизведанных гор, неся с собой страх и смерть?

Я, сари Лексан, возглавляю патруль стражи на границе мира, где меня настигает страшное осознание – наш мир совсем не такой, каким казался. Кто друг, а кто враг? Что ждет нас впереди? И смогу ли я вернуться из-за грани, чтобы сказать, что люблю того, кто предал меня в прошлом?

Прыгнуть через магический костер Матери – еще полбеды. А вот как быть с архангелом, открывшим на тебя охоту, демоном, который так и норовит соблазнить, и призраком папы римского, которого ты сама же и откопала в подземельях Ватикана? Не знаешь? А придется думать быстро: Зло копит силы и уже идет по твоим стопам, Настя…

