Русская книга о Марке Шагале. Том 2 - Л. Хмельницкая
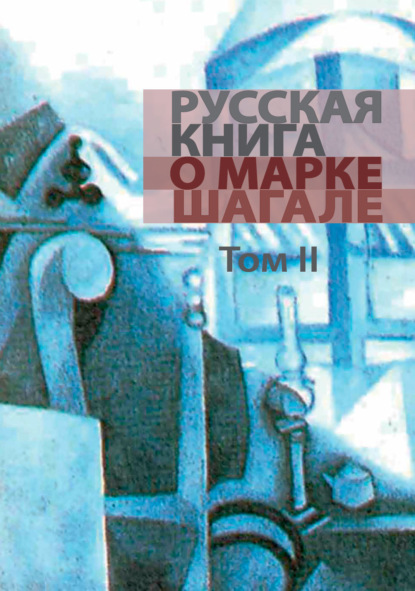
- Автор: Л. Хмельницкая, Я. Брук
- Жанр: биографии и мемуары
- Размещение: фрагмент
- Теги: архивные материалы, биографии художников, исторические документы, исторические исследования, культурологические исследования, русские художники, факты биографии
- Год: 2020
Русская книга о Марке Шагале. Том 2
Последующие ораторы в своих речах высказывали аналогичные же мысли, причем, было отдано должное тов. Шагалу, организатору школы, положившему много трудов по созданию открытой школы. < …>
Известия Витебского губернского Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов. 1919. № 22. 30 января. С. 3.
Перепеч. : Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 49–51.
77. Г. Грилин. Уголок культуры в Витебске
[Январь 1919 г. ]
На Бухаринской ул [ице] (быв. Воскресенская) в роскошном особняке бывшего местного туза – банкира Вишняка ныне приютилось молодое детище пролетарской культуры – Витебское народное художеств [енное] училище.
Родилось оно почти случайно. Всемирная война загнала в нашу глушь из шумного Парижа нашего славного земляка Марка Шагала.
Вначале он из своего «уголка» на Ильинской ул [ице] наблюдал за жизнью Витебска и кусочки этой серой монотонной жизни претворял в яркие образы полотен.
Но затем он решил, что не вольно Витебску жить для того, чтобы «рожать детей, торговать и умирать».
И при содействии высшей советской власти Марк Шагал преподнес Витебску Народное художественное училище с целой галереей славных имен современного русского изобразительного искусства, возглавляемо [е] знаменитым художником наших дней Добужинским.
Вышло это как-то просто, без крика, шума и трескотни.
Десятки и сотни молодых людей в Витебске много лет рвались к полотну и палитре. Тесная и душная мастерская художника Ю. М. Пена была приютом для них. В ней иногда загорались яркие огоньки и скоро потухали, безведомые не только для мира искусства, но и для нашего унылого и серого города.
И вдруг широко раскрылись двери нового храма искусства.
В художественное училище записалось уже около 800 ч [еловек]. Всякий, кто хочет, кто любит изобразительное искусство – находит там приют.
А. О. Цшохер. 1920-е
П. Н. Медведев. 1920-е
Я. З. Черняк. Витебск, 1918
М. Пустынин. 1920-е
При художественном у [чили]ще открыта коммунальная мастерская, в которой работает ряд молодых художников-витеблян.
Третьего дня состоялось торжественное открытие художествен [ного] училища.
Из «уголка» Бухаринской ул [ицы], из роскошного особняка банкира Вишняка, построенного на крови и поте, страданиях и слез [ах] сотен и тысяч разоренных ростовщичеством людей – над Витебском занялась заря новой культуры.
На открытие явилась небольшая горсточка людей – все горячая молодежь.
Не было митинговых речей и спичей, не было даже «программы» открытия.
Каждый говорил, что хотел, что искренно думал, все чувствовали себя в тесном, уютном кругу родных людей, которых роднили невидимые нити благороднейших чувств человеческой души.
Сначала говорил Шагал, коротко и просто, затем художник Богуславская, директор у [чили]ща Добужинский, т. т. Медведев, Марголин, Крылов и др.
Говорили простыми, искренними словами, так, как говорят люди жизни.
Читал свои великолепные юмористические стихи об училище и Шагале Пустынин, рассказал сказку Як. Окунев, играл на рояле Бай, смешил публику анекдотами артист Готарский, пили чай, получая его непосредственно на кухне, где обходились без «прислуги», вели непринужденные разговоры, кто хотел смеяться и шутить – не стеснялся.
Хорошее начало. Остается только пожелать, чтобы и в будущем этот новый уголок культуры в Витебске жил той непосредственной жизнью, которой людям следует жить вообще и от которой нас отделяли до сих пор всевозможные «условности» и «традиции», созданные пресыщенной и тупой буржуазией.
Витебский листок. 1919. № 1113. 30 января. С. 2.
Перепеч. : Harshav 2004. P. 263–264 (пер. на англ. ); Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 51–52.
78. М. Пустынин. Марк Шагал в Витебске (Ода)
28 января 1919 г.
Ура! Товарищи, дивитесь!
Никто из нас того не ждал:
В глухой провинциальный Витебск
Приехал друг наш – Марк Шагал!
Должны мы этим все гордиться
И тем довольны быть должны,
Что он приехал из столицы
На берег Западной Двины.
Родным был Витебск для Шагала
(Его палитра так пестра! )
И с ним как бы столицей стала
Провинциальная дыра.
Вся жизнь его достойна саги,
И вдохновлялся он равно,
Будь перед ним клочок бумаги
Или большое полотно.
За кисть художники берутся,
А дара нету у иных,
Хоть живописцами зовутся,
А живо пишет – кто из них?
«Шагал поможет школе мало» —
Так утверждали лишь враги,
Мы ж признаем шаги Шагала,
Как семимильные шаги.
Нам краска каждая Шагала
И кровь, и сердце зажигала.
Искусству учит нас Шагал —
Таким уж был его запал.
Да, проявил он труд немалый,
Шлифуя витебских ребят, —
И выйдут, может быть, в Шагалы
Они из бойких шагалят…
Он холил их чуть не с пеленок
И говорил им: «Не плошай!
Вперед – и выше, шагаленок,
И кисть, как знамя, поднимай! »
Хотим, чтобы всегда у Марка
Пылало вдохновенье жарко,
И – страстен, весел, пылок, рьян —
Чтоб вдохновлял он витеблян.
Чтобы звезда его сияла
Меж предвесенних облаков,
Чтобы проник огонь Шагала
В сердца его учеников.
Шагал расти им помогает,
Шагал в грядущее шагает…
Скажу: для сердца, для души
Шаги Шагала хороши.
Не декадентские идейки
Намерен Марк провозглашать, —
Нет, – тицианов и вандейков
Он будет в школе насаждать.
И ждем такого мы финала,
Когда народ заговорит:
Читать похожие на «Русская книга о Марке Шагале. Том 2» книги
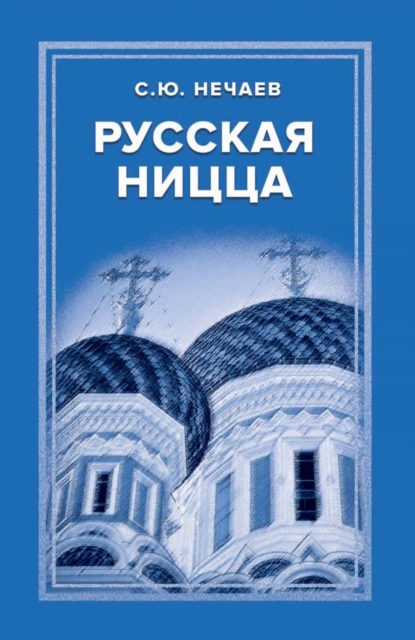
Существует мнение, что первые русские появились на Лазурном Берегу Франции «чуть раньше французов, но несколько позже римлян». Именно русские сделали ничем тогда не примечательную Ниццу «столицей» Французской Ривьеры, знаменитой на весь мир. Моде на все русское на Лазурном Берегу мы обязаны вдовствующей императрице Александре Федоровне, купившей здесь однажды поместье за нитку жемчуга. Русский дух до сих пор витает на знаменитой вилле «Казбек», на бульваре Александра III, в православной церкви
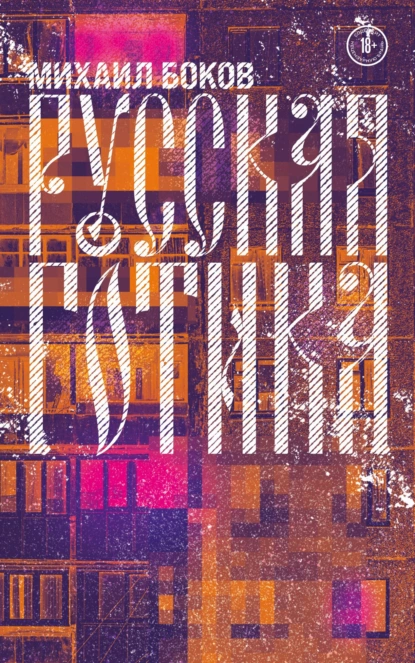
Есть такой жанр – южная готика. Макабр американской глубинки, в которой живут поврежденные социумом и историей люди, окруженные местными легендами и бытом. Боков – это наш Кормак Маккарти и Уильям Фолкнер в одном флаконе. «Русская готика» – книга яркая, громкая и жуткая. Готическая проза ассоциируется прежде всего с английской литературой, но ее образцы можно найти и в России. Интерес к литературе ужаса возник на рубеже XVIII – начале XIX века, а в 1793 году Николай Карамзин опубликовал повесть
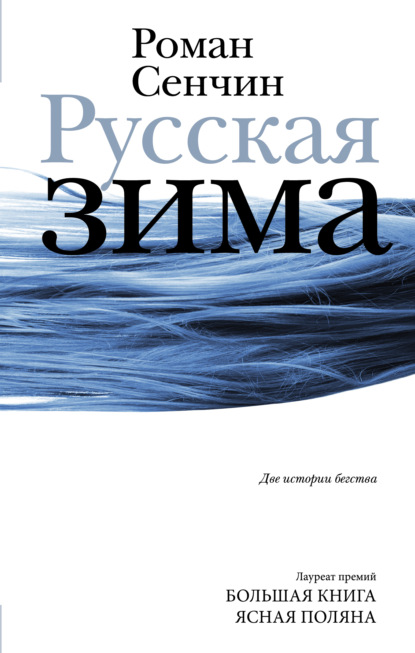
В новой книге Романа Сенчина две повести – «У моря» и «Русская зима». Обе почти неприкрыто автобиографичны. Герой Сенчина – всегда человек рефлексии, человек-самоанализ, будь он мужчиной или женщиной (в центре повести «Русская зима» – девушка, популярный драматург). Как добиться покоя, счастья и «правильности», живя в дисбалансе между мучительным бытом и сомневающейся душой? Проза Сенчина продолжает традицию русской классики: думать, вспоминать, беспокоиться и любить. «Повести объединяет

В этом уникальном издании собраны, пожалуй, все самые известные рассказы и повести, написанные на русском языке в жанре рождественского, или святочного, рассказа: от «Ночи перед Рождеством» Николая Гоголя до «Чука и Гека» Аркадия Гайдара. Помимо хрестоматийных произведений Николая Лескова, Антона Чехова и Александра Куприна в сборник включены рассказы: «Мальчик у Христа на елке» Фёдора Достоевского, «Извозчик» Максима Горького, «Ангелочек» Леонида Андреева, подборка рассказов Лидии Чарской и
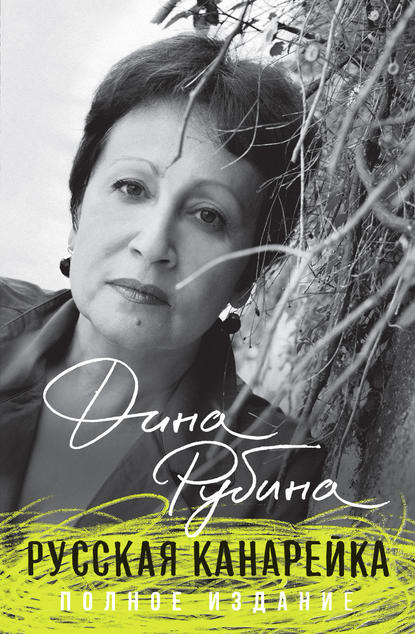
Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников… На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба. Трилогия «Русская канарейка» –

«Жизнь порой бывает несправедлива», — думал Янис, сидя в чужом саду на дереве. Несправедливость, по его мнению, заключалась в том, что непредвиденные обстоятельства вынудили молодого человека сидеть голым под палящим солнцем, раздражая яркими, красными носками двух свирепых ротвейлеров. Однако он был не прав: именно с этого дерева и начнется новая страница в жизни. Круговорот событий вихрем закружит Яниса и заставит поучаствовать в переплетении чужих судеб. Разоблачение семейных тайн,

Испокон веков русский народ любил париться в бане, здесь люди черпали силы, лечились от недугов, закалялись телом и молодели душой. «Народный лекарь» – так исстари называли русскую баню и говорили: «Баня парит – здоровье дарит». Современные исследования подтвердили лечебную ценность бани. Она благотворно действует на нервную систему, мышечный аппарат, кровообращение, кожу и другие органы и системы, тренирует потовые железы. Потоотделение не зря называют «уборщиком мусора», при нем выходят
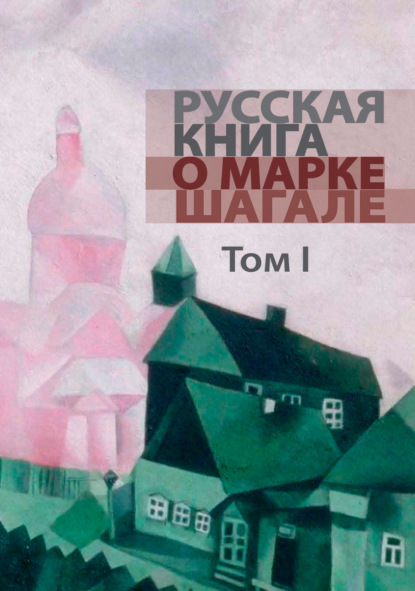
Это издание подводит итог многолетних разысканий о Марке Шагале с целью собрать весь известный материал (печатный, архивный, иллюстративный), относящийся к российским годам жизни художника и его связям с Россией. Книга не только обобщает большой объем предшествующих исследований и публикаций, но и вводит в научный оборот значительный корпус новых документов, позволяющих прояснить важные факты и обстоятельства шагаловской биографии. Таковы, к примеру, сведения о родословии и семье художника,

Пусть мафиозным структурам России и воровской иерархии еще не наступил окончательный конец, но само существование преступных сообществ теперь сопряжено с очень серьезными проблемами для них. Совсем недавно воры в законе кичились своим положением и своим титулом. Сегодня от него открещиваются, его тщательно скрывают и утаивают. А причина в новой статье уголовного кодекса, карающей тех, кто достиг высшего положения в преступной иерархии. Обновленная, дополненная версия популярной Энциклопедии
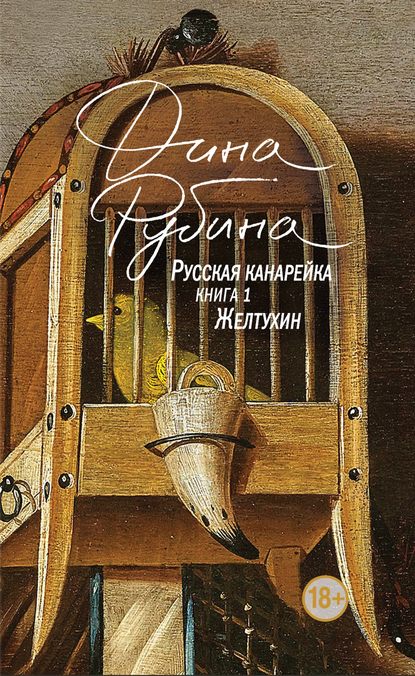
Это история поколений двух семей. Род Этингеров из Одессы – чрезвычайно способная и музыкальная семья. Второй дом, свято соблюдающий традиции и занимающийся разведением канареек, – из Алма-Аты. А начинается все со Зверолова и его птиц, среди которых обнаруживается особенно одаренный кенар по прозвищу Желтухин. Именно ему и его потомкам суждено сыграть ключевую роль в судьбах обеих семей, переживших Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и многие другие трагические события. Но что
