Действуй, мозг! Квантовая модель разума - Роман Бабкин
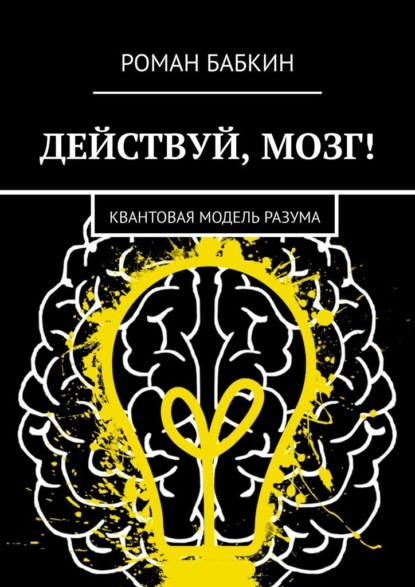
- Автор: Роман Бабкин
- Жанр: книги по философии, математика, общая биология, физика
- Год: 2021
Действуй, мозг! Квантовая модель разума
В 1950х гг. изуверскую процедуру запретили, но беда в том, что сотням тысяч официально подвергнутых лоботомии пациентам помочь уже было нельзя.
Не менее болезненным и грубым методом лечения шизофрении является электросудорожная терапия (ЭСТ). Как и лоботомия, получила распространение в 1930х гг. , но, в отличие от неё, до сих пор не запрещена.
Исходная идея всё та же: мозг – биоэлектрическая машина. Значит, если она ломается, надо долбануть по ней со всей дури: например, пропустить через мозг разряд электрического тока – хорошенько встряхнуть его, ввергнув в состояние шока.
Правда, что ЭСТ применяется только тогда, когда ничто иное (лекарства) не помогает. Но правда также в том, что таким способом можно лишь купировать острый психотический приступ, но не излечить человека.
Выше мы обсуждали, как модель «мозг-машина» позволила успешно справиться с эпилепсией – при помощи лекарств и ЭЭГ в качестве метода объективного контроля.
Однако в конце XIX века, исходя из той же модели, эпилепсию начали лечить хирургически. Одним из вариантов такого лечения стала каллозотомия – разделение полушарий головного мозга путем рассечения мозолистого тела (срединная структура, состоящая из отростков нейронов двух полушарий).
Данный метод, как и ЭСТ, хоть и ограничен строгими медицинскими показаниями, абсолютно легален. По современным оценкам, у 69% пациентов, перенесших нейрохирургическое вмешательство, эпилепсия сохраняется.
Со стороны могло показаться, что теория успешно развивается: её обсуждали, уточняли, совершенствовали. Машинообразный мозг получал всё большее признание среди образованных людей, «лидеров мнений».
Скажем, известный писатель-фантаст Герберт Уэллс (заметим, биолог по образованию) колесил по миру и всюду, где мог, пропагандировал рефлекторную теорию.
В США появились бихевиористы, требовавшие изучать только поведение человека и сводившие психику к простой схеме «стимул-реакция». Их доктринёры зачитывались работами Павлова и сурово осуждали конкурентов – всё более погружавшихся в феноменологические глубины психоаналитиков.
А на родине прославленного академика, в СССР, ругали и фрейдистов, и бихевиористов, и заодно дуалистов прошлого, вроде Декарта и Фехнера.
Требуя при этом, кто – полной отмены психологии и замены её исключительно физиологией, кто – введения всеобщей дисциплины на основе учения Павлова (об этом, в частности, писал психиатр Владимир Бехтерев, ратуя за создание особой науки, рефлексологии человека).
Активное волевое измерение мозга, впервые описанное Декартом, в представлении нейроучёных незаметно регрессировало до «нервно-психической деятельности», где, в зависимости от личных пристрастий теоретика, ведущую роль играли либо биологические, либо социальные факторы.
В концепцию стали привносить философские, политические, экономические и прочие, посторонние, смыслы. Глубинная связь модели с математикой и физикой была утрачена.
Спекуляции об управляемом средой мозге-машине вышли далеко за пределы медицины.
Вторая половина XIX столетия – время генерации уродливых социально-политических концепций по воспитанию целых народов, а первая половина XX века – период их жестокого воплощения, псевдонаучных попыток вывести «нового человека».
Нельзя сказать, что эти идеологемы стали прямым следствием представления «мозг-машина». Но они, безусловно, были с нею связаны.
Самим ходом вещей сложились условия для нечаянной экспериментальной проверки теории о механическом мозге.
Это произошло в период 1914—1945 гг. Когда сначала Европа, а затем весь мир погрузились в череду почти непрерывных войн, революций, восстаний.
Люди приучались думать о себе как винтиках в механизмах. Брали в руки автоматическое оружие; залезали в ползающие, плавающие, летающие машины и убивали других людей. Новые технологии войны позволяли не видеть врага воочию: массовые убийства, машинный способ устранения социальных «неполадок», достигли уровня конвейерной организации. Этому способствовала окрепшая химера «геополитики» – умозрительная схема, толкующая международные отношения как систему интересов государств-машин. Идеологические противники, инакомыслящие, целые народы трансформировались в абстрактные «массы» и «контингенты»: цифры в донесениях, надписи на картах. Они стали математическими функциями от территорий, которые населяли, и от средств производства, которыми пользовались. Их сложением, вычитанием, умножением и делением оперировали как алгебраическими величинами.
Декарт ужаснулся бы результатам такой проверки своей гипотезы (см. табл. 5).
Следствия теории о трёхмерном мозге-машине работали не так хорошо, как ожидалось. Гораздо хуже, нежели в случае классической теории электродинамики.
Новая теория не сопровождалась прорывом в смежных областях познания. Подобно тому, как это произошло в физике, где появилась «планетарная модель атома».
Кроме того, немаловажным критерием хорошего объяснения является его эстетическая привлекательность.
Модель Резерфорда изящнее, чем «пудинг с изюмом». Но мысль о том, что мы ничем не отличаемся от лабораторной мыши, и что из всякого человека можно выдрессировать некий «социальный тип», в сравнении с по-своему красивой логикой исходной теории Сеченова-Павлова и романтично-таинственной концепцией Фрейда, – отвратительна.
Далеко не все специалисты по мозгу человека понимали суть кризиса. А те, кто понимал, попытались спасти модель.
Четвёртое измерение?
В начале XX столетия в физике, биологии и математике происходило то, что принято называть «сотрясанием основ».
Общая теория относительности Альберта Эйнштейна, окончательно оформленная им в 1907—1916 гг. , растворила в себе механику Ньютона. Оказалось, что мир устроен сложнее, чем самая мудрёная машина. К тому же, в последний год, самого «естественнонаучного», XIX столетия физик Макс Планк ввёл понятие «квант» – родилась новая физическая теория.
У биологов были свои хлопоты. Их «альфа и омега» – теория биологической эволюции – неожиданно получила новое дыхание. В 1900 году переоткрыли законы Грегора Менделя. А ещё через девять лет появилось понятие «гены». Что в совокупности с предположением об их спонтанном изменении (мутациях) позволило сместить акцент в толковании теории Дарвина: в естественном отборе выживает не сильнейший, а наиболее удачливый.
Даже в стройную и много чего объясняющую теорию электродинамики пришлось вносить изменения. Точнее: выяснилось, что область её применения не так широка, как считалось. Тот же Эйнштейн в 1905 году объяснил феномен фотоэффекта (появление или усиление электрического тока в металле под воздействием света). Причём сделал это, исходя не из волновой природы света – как в теории Фарадея-Максвелла – а из того, что имеет место поток дискретных кусочков энергии, фотонов. Таким образом, вопрос о природе бытия снова стал решаться иначе.
В области математики нашёлся свой «бунтарь». Им оказался Георг Кантор, предложивший теорию множеств в 1891 году. Фактически он открыл новый универсальный язык математики (и науки в целом) – исследование и описание бесконечных множеств. Видный учёный Давид Гильберт на состоявшемся в 1900 году Парижском конгрессе предложил подумать об основаниях математики, что спровоцировало жаркие обсуждения и споры. Они продолжались десятки лет.
Словом, всё самое святое в науке – детерминированная Вселенная-машина, линейность времени, довлеющая роль среды в эволюции, волновая структура света, фундаментальная аксиоматическая логика – было подвергнуто сомнению.
Наметился переход от одной научной парадигмы к другой, а в теориях о мозге наблюдался застой.
Ряд специалистов предприняли попытку обновить модель трёхмерного мозга-машины. Они стремились открыть в нём четвёртое измерение.
Есть легенда, что психиатр Карл Густав Юнг, ученик Зигмунда Фрейда, предвидел Первую мировую войну. Неизвестно, так ли это.
Но если в этом есть хоть какая-то крупица смысла, то она в том, что специалист, ценивший присущую человеку интуицию, ощутил, что видеть во всех проявлениях человеческой жизни механизмы, рефлексы и жёстко детерминирующие поведение аффекты – явный перебор. Биологизированный, зажатый субъект, которым предписывал считать растянувшегося на кушетке пациента классический психоанализ, Юнгу не нравился.
Психиатр описал архетипы: «изначальные образы» или «унаследованные структуры мышления», помещенные в культурную память народов, т. н. «коллективное бессознательное».
По мнению Юнга, помимо биологических инстинктов, психологической маски и надзирающей (социальной) структуры, каждый человек обладает ещё частичкой «коллективной души».
Читать похожие на «Действуй, мозг! Квантовая модель разума» книги
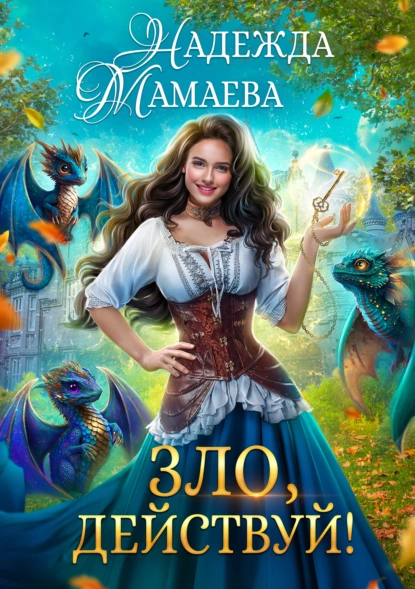
Не спасти древний род, так отомстить за него – таково было условие, при котором я получила второй шанс на жизнь, заключив сделку с древним духом. Новый мир. Новое тело. Новые неприятности. И главная из них – теперь для всех я преступница. Злодейка, которую по обвинению в заговоре разыскивает стража. При таком раскладе спрятаться под чужим именем на самом видном месте – в академии магии – не такая уж и плохая идея. Жаль, что при этом мне пришлось стать артефактом.
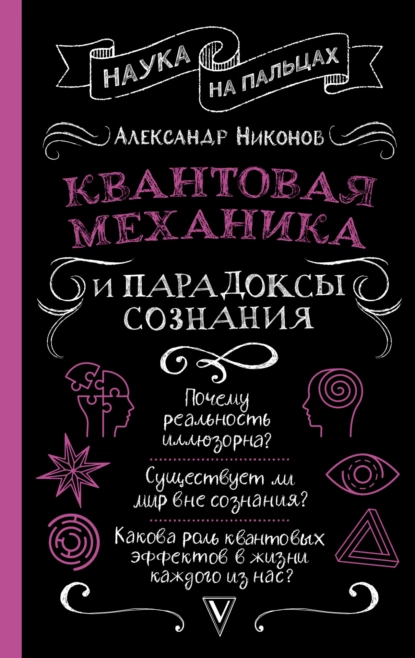
В новой книге автор рассказывает о таинственном мире квантовой механики – самой удивительной, труднообъяснимой и мало кем понимаемой главы в книге физики. Квантовая механика известна не только тем, что изучает сам фундамент мироздания, то есть основу основ нашего мира, но и является первым разделом физики, в котором современная наука столкнулась с наблюдателем, то есть с сознанием. А стало быть, рассмотрение этой науки невозможно без изрядной доли экзистенциализма – попыток понять, чем являются

Можно ли оставаться в здравом уме и твердой памяти, несмотря на возраст и плохую наследственность? Доктор медицинских наук и практикующий нейрохирург Санджай Гупта рассказывает, что именно выходит в мозге из строя, и дает рекомендации, как сохранить когнитивные функции в устойчиво рабочем состоянии. Читайте краткую версию важного научпопа, который протягивает руку помощи тем, у кого на горизонте появилось страшное слово «деменция». Саммари книги «Устойчивый мозг» подготовлено совместно с

Эта книга – продолжение бестселлера «Живи как кот». Автор предлагает посмотреть на свою жизнь с точки зрения кота. Домашний любимец Зигги отлично знает, как осознанно и с удовольствием проживать каждый новый день. На страницах книги он делится кошачьими секретами и рецептами маленьких радостей, помогает вам почувствовать внутреннюю свободу, стать более смелым, решительным и счастливым.
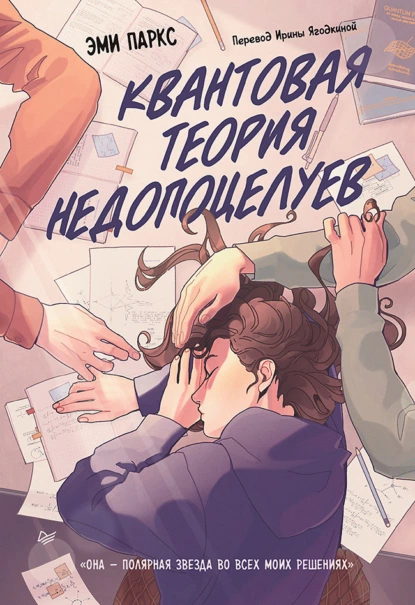
Дано: Эви, гений математики и обладательница тревожного расстройства; Калеб, будущий разработчик и лучший друг Эви; Лео, новичок и изобретатель «прелестных» решений; Мило, неизвестное значение. Вопрос. Что будет, если в одном уравнении окажутся Эви, с детства влюбленный (безответно ли?) в лучшую подругу Калеб и Лео, оценки которого упали из-за того, как Эви прикусывает губу? А если появится некто третий – загадочный друг по переписке? Жизненные задачи со звездочкой, сложности общения с

«Питер Холлинс – автор бестселлеров, имеет степень бакалавра и магистра психологии. Питер продолжает заниматься практической психологией и помог многим людям найти путь к успеху и самореализации. Понимаете ли вы точное значение фразы «довести дело до конца»? Вы наверняка её слышали, но задумывались ли о смысле этих слов? Автор считает, что определение фразы заключается в умении воплощать свои намерения в жизнь. Зачастую мы даём себе обещание выполнить поставленную задачу, и, возможно, в один
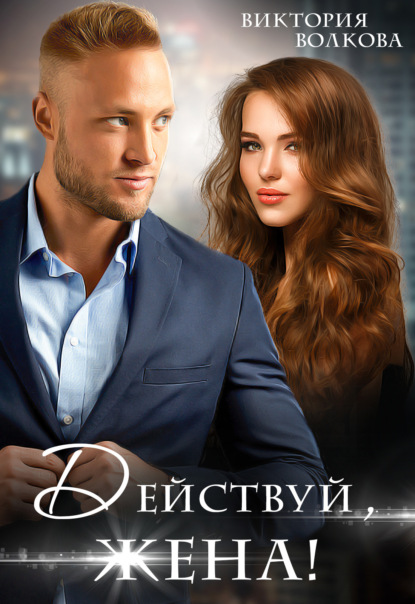
Ни слова лжи! Если ведешь скандальный блог под прикрытием, будь готова к разоблачению. Удрать не удастся, придется выкручиваться. И нужно принять помощь, даже если она приходит от известного актера, о ком писала гадости с завидным постоянством. Вот только звезда экрана настроен непримиримо. И выдвигает свои условия. Ошеломительные и дерзкие…

Главные принципы лидерства – в формате саммари! Эрминия Ибарра – преподаватель INSEAD и Лондонской школы бизнеса – знает все о том, как быть эффективным руководителем. В книге «Действуй как лидер, думай как лидер» она рассказывает, что такое ловушки компетентности и как они вредят развитию, а также предлагает по-новому взглянуть на подход к работе и деловому общению. В нашем саммари собраны главные инструменты из практики автора, которые помогут вам открыть возможности для новшеств и инноваций
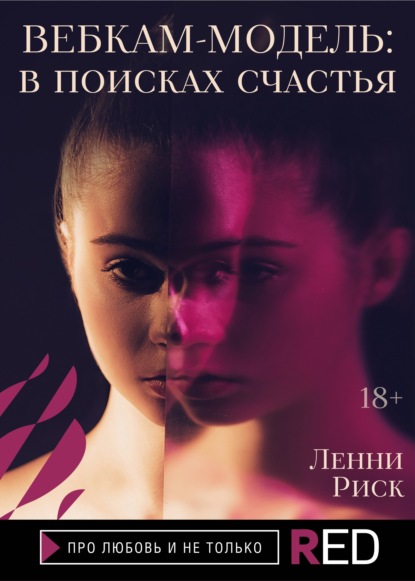
После окончания университета Яна переехала в Москву и устроилась в офис своей лучшей подруги Юльки. Увы, вскоре она осталась и без подруги, и без работы. Беньямин, обаятельный джентльмен из Конго, порекомендовал девушке элитную вебкам-студию в центре Москвы. Яна стала моделью в студии, однако реальность вебкама оказалась далека от стереотипов. Впервые почуяв вкус денег, девушка задумалась, не влюбилась ли она в Беньямина, но романтические переживания быстро отошли на второй план. Бывший
