Яша, ты этого хотел? - Дина Рубина

- Автор: Дина Рубина
- Серия: На солнечной стороне
- Жанр: современная русская литература
- Теги: жизненные трудности, житейские истории, превратности судьбы, проза жизни, рассказы, семейные ценности
- Год: 2021
Яша, ты этого хотел?
Уже надевая в прихожей новые китайские туфли, Перечников спохватился и достал сложенную вдвое, махровую на сгибе поздравительную открытку.
– Чуть не забыл! Держу года четыре, специально для повода – увидеться… Вот, пришла на адрес санчасти. Там ничего особенного. Поздравление.
Ирина Михайловна взяла в руки мятую открытку, и вдруг – приблизилось, налетело, навалилось все: скрип ивовой коляски, кастаньетное щелканье прищепок за окном, холодные ветры и:
Чужой дя-а-дька обеща-ал
Моей ма-а-аме матерья-ал…
«Дорогие Ирина Михайловна и Сонечка! – написано было крупно, размашисто и – что удивило – грамотно. – Поздравляем вас с праздником Восьмого марта, желаем…» Ну и так далее, как положено, – со здоровьем, счастьем, со всем необходимым человеку. И подпись: Люба и Валентин…
Ни адреса, ни намека, где искать. Что за характер! .. Весь вечер Ирина Михайловна слонялась по дому сама не своя. Наконец взялась гладить тюк белья, недели две ожидающий своей очереди. Катала тяжелый утюг по глади пододеяльника, вспоминала, вспоминала: скрип ивовой колыбели, сплетенной японцем Такэтори, две почти одинаковые узбекские галоши – пара двугривенный, лысеющую кондаковскую шубу… Подумала: надо в каникулы съездить с Соней на мамину могилу. Соня два раза спрашивала из-под одеяла:
– Мам, ты чего?
– Ничего…
…Скрип коляски, черное азийское небо над двумя девочками, безнадежно обнявшимися у края ночи, на нижней ступени крыльца. И –
Чужой дя-а-дька обеща-ал…
Моей ма-а-аме матерья-ал…
Что за характер! Ни адреса, ни намека, где искать…
Он обма-а-нет мать твою-у…
Баю-ба-аюшки баю-у…
Баю-ба-а-юшки баю-у…
Баргузин
Маргарите Черной
Имя такое – Баргузи? н – вы, конечно, слыхали? «Эй, баргузин, пошевеливай вал! » – это из песни; помните, в романе «Мастер и Маргарита» ее под управлением черта поет хор советских чиновников?
В песне имеется в виду могучий байкальский ветер, предвестник солнечной погоды. А есть еще река Баргузин, впадающая в Байкал, – места все на редкость живописные…
Но мало кто знает, что это и название старинного поселения на берегу реки, которое в середине семнадцатого века возникло как казацкий острог. Там родилась моя мама (хотела пошутить: «в остроге», да удержалась, а зря: настоящим острогом ее жизнь там и была). Но я забегаю…
Городок, значит, крошечный, одно название, вокруг на необозримые версты исконно местное население – буряты и орочи, всё отменные охотники и рыболовы. Можете вообразить, сколько зверья в тех лесах водилось: красный волк, манул, снежный барс, а главное, знаменитый баргузинский соболь; в реке и в озере полно нерпы да почти вымершего ныне омуля.
А сейчас – не возражаете? – чуток истории, вам не слишком известной. В первой половине девятнадцатого века Баргузин стал местом ссылки политических и неблагонадежных, короче, тех, кто представлял угрозу «устоям общества». Ну и бывших каторжан там поселяли, дальше ведь некуда, дальше – Китай. Чуть не первыми ссыльными были братья Кюхельбекеры; старший так и похоронен на Баргузинском кладбище.
И вот уж не знаю, по какой причине, но именно Баргузин стал местом ссылки многих опальных евреев.
Эти поселенцы, в основе своей образованная интеллигенция, оказавшись во власти здешних ледяных ветров, вынуждены были приняться за натуральное хозяйство да торговлю – как-то надо было выживать! И по мере освоения ими этих мест, а также с притоком населения городок расширялся и оживлялся неимоверно, ибо, помимо пушнины и соленого омуля, источником прибыли стали… правильно, золотые прииски!
Время шло, с годами стихийные торговые операции баргузинских перекупщиков и лабазников приобретали все более цивилизованные формы товарообмена, так что, несмотря на труднодоступность этого поистине медвежьего угла, к концу девятнадцатого века блеск золотых самородков привлек в Баргузин даже ушлых китайцев.
Странно, знаете ли… Вот я задумалась сейчас: русские поселенцы в городке надолго не оседали, уж и не знаю почему. Но факт остается фактом: «во глубине сибирских руд», в местечке, окруженном высоченными скалами Баргузинского хребта, на живописных берегах реки, берущей начало в отрогах лесистых гор, сложился такой вот своеобразный бурято-еврейско-китайский интернационал. И, знаете, вполне гармонично сложился. Может, природа этой «сибирской Швейцарии», с ее суровыми буранными зимами и обжигающе коротким летом способствовала гармонии такого необычного буддийско-иудейского симбиоза?
По воспоминаниям моей матери (к рассказу о жизни которой я скоро подберусь), жил этот «Вавилон в миниатюре» трудно, но дружно, во взаимовыручке и взаимоподдержке. Кстати, от матушки досталось мне в наследство материальное подтверждение еврейско-китайской кооперации тех времен – распавшееся на две половинки «безразмерное» золотое кольцо с драконом. «Потому и развалилось, – говорила она, – что беспримесное золото очень хрупкое».
Кольцо было заказано дедом для красавицы жены и сработано китайцем-ювелиром из золотого самородка, найденного на берегу реки кем-то из Майзелей самолично.
Вот мы и прикатились к моим таёжным предкам…
Первый баргузинский Майзель, с классическим именем Абрам, появился здесь во второй половине (если не в середине) девятнадцатого века. Семейная легенда всегда уклончива, но что у нас есть, кроме обрывочных сведений, поставляемых памятью предыдущих поколений? Так вот, по семейной легенде, Абрам Майзель, человек необузданного нрава, в молодости был замешан в политических беспорядках то ли в Польше, то ли в Германии, из-за чего был вынужден бежать в Россию – или бегать по России – выбирайте, что больше нравится. Но безудержный размах окаянной души привел-таки его в лоно народовольчества, и можно только догадываться, что совершил или по крайней мере замыслил этот неистовый человек, если в результате был закован в кандалы и отправлен по этапу в Сибирь.
История о кандалах и этапе даже печаталась в газете. Была ли это «Правда», «Сибирская правда» или «Баргузинская правда» (как и была ли это правда вообще) – припомнить не могу. Помню только мятую, полузатертую на сгибах страницу, которую довелось держать в руках. Давно это было, в подростковом возрасте, когда человеку плевать на историю семьи, корни рода и прочие стариковские глупости; так что содержание статьи из памяти улетучилось. Но вот портрет легендарного прародителя – «рэволюционэра», восстановленный по старинной фотографии (из этапных сопроводительных документов? ), впечатлил на всю жизнь. С пожелтевшей газетной страницы на меня сурово смотрела совершенно разбойничья, даже зверская физиономия прадеда Абрама: свирепый взор из-под кустистых бровей, сходящихся на переносице орлиного носа, растрепанная борода… Насколько удалось мне позже выяснить, «политических» в кандалы не заковывали, а уж кандалы по всему этапу были уделом особо отъявленных головорезов. Так что склонна я думать, что в Баргузине прадед появился, выйдя на поселение с каторги. А уж за что на каторгу угодил… хотела бы я знать!
Читать похожие на «Яша, ты этого хотел?» книги

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» – в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи»,
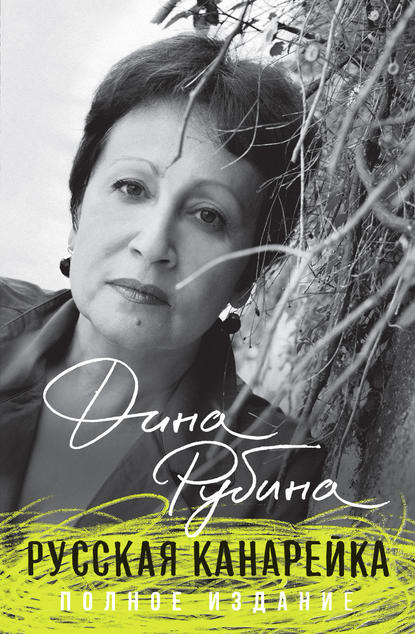
Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников… На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба. Трилогия «Русская канарейка» –
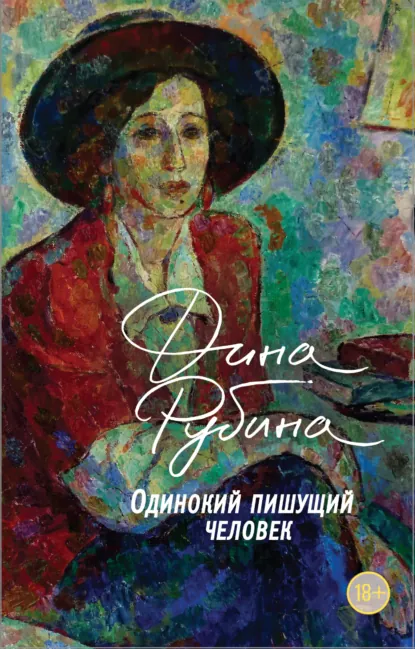
Дина Рубина – один из самых успешных авторов современной интеллектуальной прозы, который вот уже полвека радует читателей увлекательными жизненными историями как в малой, так и в крупной формах. Именно от такого творца хочется получить рекомендации о том, как создавать качественные и востребованные литературные произведения. Однако книга «Одинокий пишущий человек» – это не просто сборник советов. Перед вами своеобразный роман о писателе, его жизни и творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и
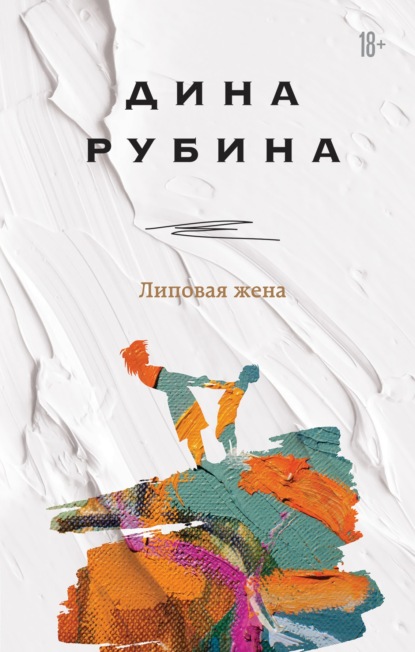
Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, воспитывающая сына; «выходной» папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую любовь… Кругом «ухабы характера», всюду «щипки, тычки и щекотания», «грызня грызнёй»… Не случайно мальчик, персонаж рассказа «Терновник», заявляет вечно занятой матери: «Я найду себе другую женщину!» А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа «Двойная фамилия», произносит: «Никогда не женюсь,

Нет места более священного, чем Иерусалим – «ликующий вопль тысяч и тысяч глоток», «неистовый жар молитв, жалоб и клятв», «тугая котомка» запахов: ладана – христианского квартала, рыбы – мусульманского, свежестиранного белья – еврейского, хлебного – армянского. Жить в этом городе непросто, потому что он, по словам Дины Рубиной, – «вершина трагедии». Но что было бы в жизни писателя, если бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с этого
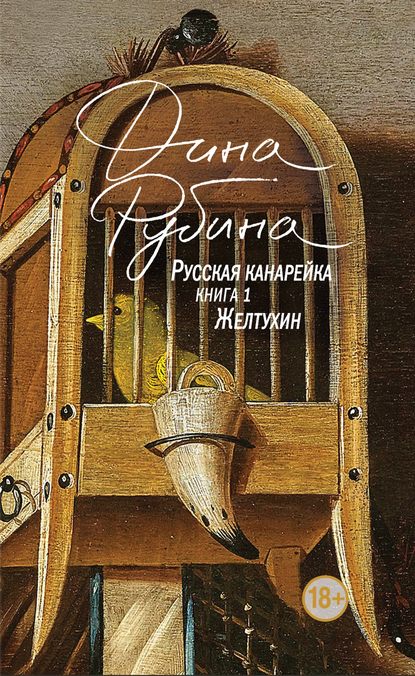
Это история поколений двух семей. Род Этингеров из Одессы – чрезвычайно способная и музыкальная семья. Второй дом, свято соблюдающий традиции и занимающийся разведением канареек, – из Алма-Аты. А начинается все со Зверолова и его птиц, среди которых обнаруживается особенно одаренный кенар по прозвищу Желтухин. Именно ему и его потомкам суждено сыграть ключевую роль в судьбах обеих семей, переживших Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и многие другие трагические события. Но что

Перед вами авторский сборник короткой прозы от известной российской писательницы Дины Рубиной. В книгу «Бонжорно, команданте!» вошли двенадцать рассказов, эссе и очерков, вдохновленных путешествиями самого автора по разным уголкам Европы. Поездка в Мюнхен на семинар могла бы стать вполне заурядной, если бы подруга Дины не пригласила ее на обратном пути завернуть в Сорренто и провести несколько дней в скромном, но уютном пансионе своей знакомой. Там писательница узнала необычную, наполненную
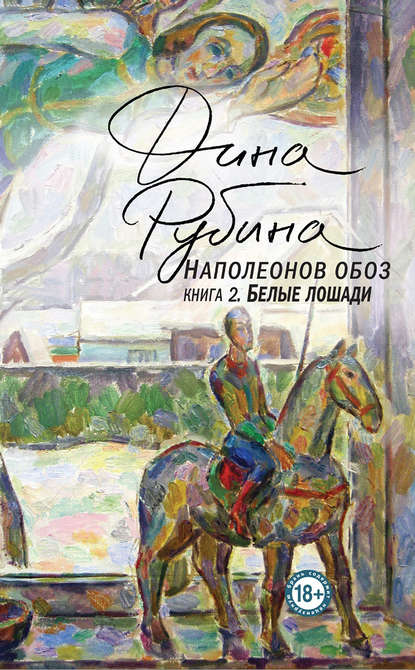
Все началось с того, что Надя Прохорова повстречала синеглазого кудрявого мальчишку, который ей очень понравился. Вскоре судьба свела их вновь. Рыжеволосая Надежда, прозванная Дылдой, крепко запала в сердце юного Аристарха Бугрова… Дети взрослели и превратились в подростков. Они хранили верность друг другу, словно их обручили еще с пеленок… Стах был уверен: им с Надей не суждено изведать страданий и никто никогда не встанет между ними. Они ведь предназначены друг другу судьбой. И всегда будут
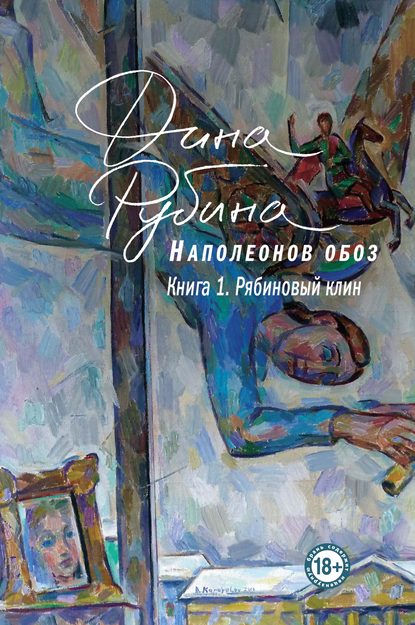
Перед вами первая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Это эпическое произведение повествует о зарождении великой любви между двумя сильными людьми. Аристарх и Надежда испытывают друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако влюбленные не догадываются, что их разведет сама жизнь, которая подготовила для них жестокое испытание – предательство. Может ли яркая, как раскаленное солнце, любовь угаснуть в один миг? Разумеется, нет! И героям предстоит пережить множество испытаний и
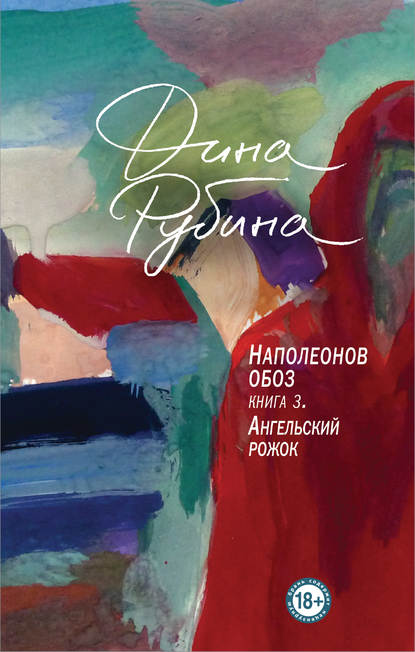
Перед вами третья и заключительная книга семейной саги «Наполеонов обоз» от известной российской писательницы, автора бестселлеров и лауреата премии «Большая книга» Дины Рубиной. Надежда Прохорова и Аристарх Бугров познакомились, еще будучи детьми. Но даже в столь раннем возрасте они поняли, что созданы друг для друга. Однако судьбе было угодно превратить влюбленных в Орфея и Эвридику: едва достигнув подросткового периода, они вынуждены были расстаться на… двадцать пять лет! Надя и Сташек
