Алексей Черкасов: День начинается
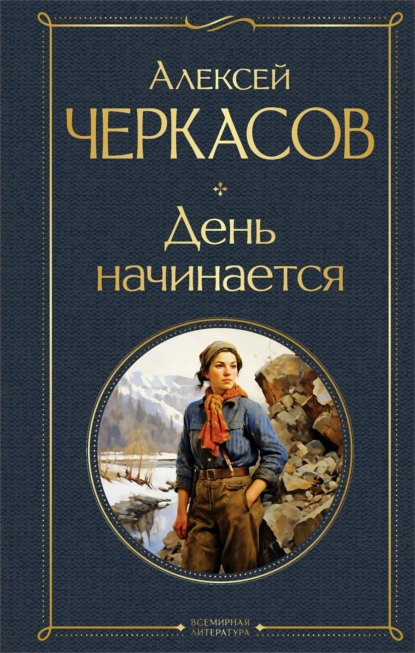
- Название: День начинается
- Автор: Алексей Черкасов
- Серия: Всемирная литература (новое оформление)
- Жанр: Геология, Историческая литература, Советская литература
- Теги: Жизнь в СССР, Исторические романы, Исторические события, Послевоенные годы, Сибирь, Советские писатели, Социальная проза
- Год: 1949
Содержание книги "День начинается"
На странице можно читать онлайн книгу День начинается Алексей Черкасов. Жанр книги: Геология, Историческая литература, Советская литература. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Алексей Тимофеевич Черкасов (1915—1973) – советский писатель-прозаик, автор знаменитой трилогии «Сказания о людях тайги» («Хмель», «Конь рыжий», «Черный тополь»), уроженец Енисейской губернии (ныне Красноярский край) и потомок ссыльного декабриста, яркий талант с непростой судьбой.
Его ранний роман «День начинается» (1949 г.) посвящен трудовым будням советских геологов. В центре сюжета конфликт главного героя, страстного искателя и мечтателя, с равнодушным окружением.
Роман представляет краеведческий интерес. Он рекомендован читателям, которые хотят узнать больше о Красноярском крае, нравах и быте послевоенной эпохи, а также поклонникам русских региональных саг («Угрюм-река», «В лесах» / «На горах», «Каменный пояс», «Вечный зов» и др.)
Онлайн читать бесплатно День начинается
День начинается - читать книгу онлайн бесплатно, автор Алексей Черкасов
© Черкасов А. Т., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Тому, с кем создана эта книга, – Полине Дмитриевне Москвитиной – ПОСВЯЩАЮ.
Глава первая
1
Ветер гнал тучи…
Все вокруг взвывало, дымилось. Город на Енисее, словно огромная птица, распластав свои мощные крылья по берегам скованной льдом реки, смотрел в мятежную мглу ночи тысячами оранжевых светящихся глаз. Улицы города были пустынны. Не видно было прохожих; автомобили не расписывали мостовые своими узорчатыми шинами; многоэтажные дома по проспекту Сталина, невидимые во тьме, казались призрачными, таинственными: точно каменные стены их растворились в воздухе, и только желтые квадраты окон висели еще над землею, но и они то там, то тут гасли.
Но и в эту буранную ночь жизнь шла своим чередом…
Под крышами заводских корпусов умные руки человека шлифовали торпеды и мины, обтачивали стволы пушек и головки снарядов – все это делалось спокойно, деловито. Инженеры создавали новые конструкции и так же, как всегда, то радовались успеху, то огорчались неудачами.
К городу шел пассажирский поезд из Хакасии. Прощупывая дорогу снопами света паровозных фар, он извивался на изгибах идущего под уклон пути, как огромная трехглазая змея. Поезд пробивался навстречу мраку, ветру и мокрому снегу.
С этим поездом возвращался из разведки отряд геологов.
Геологи занимали предпоследнее купе в общем вагоне. В маленьких, наспех сколоченных ящиках отряд вез с собою образцы рудных минералов и все то подручное, что можно было захватить. На двух верхних и багажных полках всхрапывали рабочие и буровые мастера, в телогрейках, полушубках, бахилах, заросшие и грязные от долгого пути и горных работ. Внизу дремали геологи Муравьев, Одуванчик, Чернявский и Редькин. Матвей Пантелеймонович Одуванчик, поджарый интеллигентный мужчина лет сорока пяти, с птичьим носом и брезгливо поджатыми губами, то дремал, покачиваясь всем корпусом, то вдруг начинал энергично двигаться, осматривать себя со всех сторон, щупать карманы борчатки, охорашиваться, обтирая свое длинное лицо большим клетчатым платком, или начинал говорить, обращаясь к первому, с чьим взглядом случайно встретился в ту или иную минуту. И даже засыпал он как-то сразу, на полуслове. Рядом с ним, развалившись, вытянув ноги по проходу, спал кругленький, осадистый Тихон Чернявский, выдувая носом такие звучные мелодии, что даже Одуванчик вздрагивал.
По правую сторону от Одуванчика, в углу, у столика, занимала укромное место женщина в старенькой шинели. Она точно стеснялась своей рваной солдатской шинели, потому так и жалась в углу, в тени. Руки она спрятала в обтрепанные рукава, воротник подняла, так что и головы не видно было. У ее ног стоял повидавший виды черный чемодан, к коему были прикреплены ремнем какие-то бумаги.
Напротив женщины в шинели, облокотясь на столик рукой, ссутулившись, сидел Григорий Муравьев, в меховой кожаной тужурке с застежками «молния» и таких же меховых брюках, вправленных в болотные сапоги с широкими раструбами голенищ. Он беспрестанно курил, прикуривая одну цигарку от другой. Волосы у него были растрепаны, черные, как смоль, и он их то и дело взъерошивал, тяжело вздыхая. Как видно, думы у инженера Муравьева были не из веселых! Рядом с ним лежал белый овчинный тулуп, лисья красная шапка с длинными ушами, двуствольное ружье с патронташем и вместительный рюкзак на ремнях. У ног его, свернувшись черным комом, дремал здоровущий кобель Дружок, к которому хозяин изредка наклонялся, гладя его по голове. «Да, Дружок, положение наше не из веселых, но стоит ли вешать голову? Будем же мужчинами!» – как бы говорили жесты хозяина и его тяжелые вздохи.
Двухосный старенький вагон скрипел, подпрыгивая на стыках, отчаянно встряхивал, будто в этом и состояло его главное назначение. Матово-мутный свет стеариновой свечи над дверью слабо прорезывал густой сумрак.
За станцией Минино в вагоне зашумели, заговорили, возникла та своеобразная суета, когда пассажиры еще за сто километров до своей станции готовятся к выходу.
– Ну-с, мы, кажется, вырвались из мрака таинственной неизвестности, – заявил Одуванчик, толкнув в бок храпящего Чернявского.
На ящичках проснулся Гавриил Редькин, угрюмый, сутулый человек со сросшимися над переносьем толстыми бровями, косящий на оба глаза, проворчал себе под нос, выругал допотопный вагон со всеми его «архиерейскими» удобствами, а тогда уже, широко зевнув, вытащил из кармана бушлата кисет и, закуривая, топчась возле столика, невзначай наступил на ногу женщины. Та вскрикнула.
– Что вы, не видите, что ли?
– А ты не расшеперивайся! – пробурлил Редькин, свистя толстым висячим носом, словно лез в гору. – Залезли в чужое купе, да еще визжите тут. Важность!
– Вагон общий, – возразила женщина.
– Купе забронировано для геологов. Ясно? Можете опростать место; самим негде сесть. Выгружайтесь.
– Совершенно верно, – поддержал Одуванчик участливым голосом. Трудно было понять, к кому обращены его участливые ноты: к женщине ли или к медвежковатому верзиле Редькину.
Тихон Чернявский, продирая глаза, поднялся с места, подошел к незнакомке, нагнулся, бесцеремонно заглянув ей в лицо.
– Курносая, побей меня гром! – басом известил он. – Кто это нарядил тебя в серую суконку, детка, а?
– Война.
– Война! В точку попала! – захохотал Чернявский. – Ты подаешь надежды, детка. Тятька с фронта на порог – дочка в шинель и айда в дорогу, ха, ха, ха!.. Ну ничего, мы тебя зачислим в нашу партию. Считать до пяти умеешь? Будешь у нас за коллектора отряда, камушки перебирать. Харчей хватит, работенка – не бей лежачего. Выдадим тебе полушубок, сапоги вот с такими голенищами, а там, глядишь, к осени заработаешь на котиковое манто, а то и чернобурку прихватишь.
– Ей лучше бобра, – крикнул Редькин, нарочито пуская махорочный дым в лицо незнакомки.
– А вы меня не окуривайте!
Редькин, не обращая внимания на замечание, затянулся и снова выпустил такой клуб вонючего дыма, что женщина закашлялась.
– Ну, ты брось эти штучки, – осадил Редькина Чернявский, вклиниваясь на лавку между Одуванчиком и незнакомкой. – Что ты так жмешься в угол, детка? Будь смелее! Из какой деревни будешь, а?
– С ленинградской, дядя. – В голосе незнакомки, совсем не детском, слышалась грустная ирония усталого человека.
Одуванчик понимающе хихикнул.
– Теперь все из Ленинграда, – сказал он. – Город легендарный, в доподлинном смысле, как не назваться ленинградкой?
– Похожа вилка на бутылку, – захохотал Редькин.
– Ничего, ее Ленинград впереди, – возразил Чернявский, снова пытаясь взглянуть в лицо незнакомки. – Вот как приедешь в наш город на Енисее, детка, так дуй пешком через Енисей, тут сразу и увидишь Ленинград. Только не забудь Гаврилу пригласить в провожатые. Он у нас геолог симпатичный, обстоятельный: покажет и расскажет, что к чему.
– Пусть ей лешак показывает, но не я, – отрезал Редькин, покидая купе. Следом за ним подался Одуванчик, на ходу сообщив, что буран, вероятно, возник из таинственного теплого циклона, проникшего из-за Каспия на север.
Ветер взвывал за обледенелыми окнами. Вокруг печки-буржуйки в конце вагона толпились дети, женщины с узлами и свертками. Махорочный дым плавал густым облаком, как туман в осеннюю пору над озером.
Муравьев сказал Чернявскому, чтобы рабочие подготовили ящики к выгрузке через нерабочий тамбур, о чем он уже договорился с проводником.
– А подадут нам машину? – спросил Чернявский, царапая в затылке.
– Я же дал телеграмму.
– Хо! Телеграмма! А буран? Ворочает черт-те как! И будем мы до утра торчать на вокзале с ящиками!
Это предложение ввергло Чернявского в минутное раздумье. Но он вовсе не беспокоился о ящиках, а думал о том, встретит его на вокзале строптивая возлюбленная Павла-цыганка или не встретит.
2
Чем ближе подходил поезд к большому сибирскому городу, тем беспокойнее чувствовала себя женщина в шинели. Она то взглядывала в обледенелое окно, к чему-то прислушиваясь, то снова зябко прятала руки в рукава, погружаясь в свои безотрадные думы. Вся она испуганно сжалась в комочек, словно впереди, куда она ехала, ждало ее что-то страшное.
Это ее мятежное состояние удивило Муравьева, он спросил:
– Вы что, и в самом деле из Ленинграда?
– Я? Вы ко мне? – растерянно пролепетала женщина, слегка выдвинув голову из воротника шинели. – Да, из Ленинграда.
Чернявский, распоряжаясь выгрузкой ящиков, посмотрел на незнакомку через плечо, отвернулся и вышел из купе.
– Давно? – продолжал Муравьев.
– Еще в декабре меня вывезли в сызранский госпиталь. А с июня еду…
– Далеко ли?
– Не знаю… Тут сойду, в этом городе. А там, дальше, я еще не знаю.
– Как то есть не знаете? У каждой дороги должна быть конечная станция. Дорог бесконечных не бывает. – Муравьев пожал плечами, близоруко щуря глаза, присмотрелся к женщине, но ничего не высмотрел. – У вас что, родные здесь?
– Ни родных, ни знакомых. Моя семья где-то в Сибири. Мы эвакуировались из Ленинграда. Папа и мама еще в декабре сорок второго выехали машинами через Ладожское озеро. Я – отстала… А тут вагоны, вокзалы… От Уфы наш эшелон направили в Чкалов и там оставили всех ленинградцев… Я… Я… Папа говорил, что если будем эвакуироваться, то выедем в Новосибирск или в этот город. Но в Новосибирске их не оказалось. Вот теперь сюда еду. А тут так холодно…
Слышно было, как ветер завывал и бился в стенки вагона.
– Какой страшный буран! Тут, наверное, всегда такие бураны?
– Зима начинается с буранов, – ответил Муравьев.
– И мороз, кажется?
– Чувствуется, что крепко подморозило. А у вас что, кроме этой шинели, ничего нет?
– Что же у меня может быть еще? – ответила вопросом ленинградка. – И шинель-то чужая. Это мне начальник сызранского госпиталя пожаловал шинель на добрую память. Так вот случилось…
– Где же вы остановитесь в городе?
– На вокзале, верно.
– Вокзал – плохое пристанище.
– Лучше, чем никакого. – И как бы извиняясь, сообщила: – Я так измоталась в дорогах, что сил нет. Дальше я не могу ехать. Я все еду, еду! И все – вагоны, вокзалы. Вагоны, вокзалы. Мне кажется, я всю жизнь еду…
Она повторяла: «Вагоны, вокзалы, и все еду и еду», – словно этими словами определяла и свое душевное состояние, и свое будущее. Муравьев вздрогнул от острой жалости, поняв ее невысказанный, но страшный своей явственностью вопрос: «Что же мне делать дальше?» Голос у нее был приятный, певучий и мягкий. Еще в Ачинске Муравьев даже подумал, что эта женщина села в забронированное геологами купе без билета, потому так и пряталась в тени. Одуванчик даже сел на нее и, когда она подала голос, весьма удивился присутствию женщины «во мраке таинственной неизвестности», извинился и отодвинулся подальше, предусмотрительно положив недремлющую руку на саквояж и чемодан. За станцией Черная Речка Муравьев из чувства сострадания оттеснил было контролера от купе, занимаемого геологами, но незнакомка сама предъявила билет и опять нырнула в угол.
Сейчас Муравьеву захотелось этак невзначай заглянуть незнакомке в лицо, посмотреть, что за девушка, почти всю блокаду делившая с ленинградцами «горе пополам», но от одной такой мысли ему стало стыдно и нехорошо. Какое ему дело? Пусть она будет безобразная, чересчур курносая, но она больше двух лет провела в блокаде, голодала, мерзла, и вот едет в Сибирь в поисках семьи, и, быть может, потому, что она такая скромная, стыдливая и менее пронырливая, чем другие, едет вот так, в битком набитых вагонах, пряча себя и свое лицо, страдает, проклинает от горя фрицев, войну и свою лихую судьбину.
Думая так, хмуря в строгом изломе черные брови, Муравьев закурил и сказал:
