Томас Манн: Размышления аполитичного
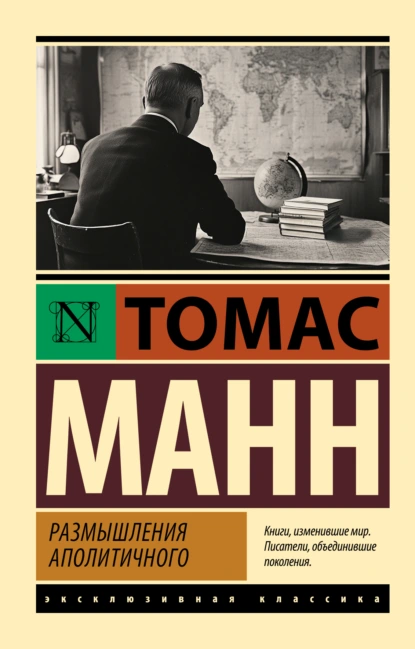
- Название: Размышления аполитичного
- Автор: Томас Манн
- Серия: Эксклюзивная классика (АСТ)
- Жанр: Зарубежная классика, Литература 20 века
- Теги: Гражданская позиция, Историческая публицистика, Немецкая классика, Патриотизм, Полемика, Точка зрения, Философско-исторические размышления, Человек и общество
- Год: 1918
Содержание книги "Размышления аполитичного"
На странице можно читать онлайн книгу Размышления аполитичного Томас Манн. Жанр книги: Зарубежная классика, Литература 20 века. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
«Размышления аполитичного» – самая спорная и полемичная из книг Томаса Манна.
Публицистический труд, вышедший в 1918 году, вызвал настоящую бурю споров среди писателей и критиков и даже привел к разрыву Томаса Манна с братом Генрихом.
Одни преувеличенно восхищались патриотизмом Манна, другие обвиняли его в конформизме и готовности идти на поводу у официозной пропаганды, однако ни те, ни другие не были близки к истине.
В «Размышлениях аполитичного» Манн искренне рассуждает о том, что, в его понимании, значит быть гражданином своей страны и любить ее, пусть и не разделяя ее ошибок и заблуждений, и в радости, и в горе…
Онлайн читать бесплатно Размышления аполитичного
Размышления аполитичного - читать книгу онлайн бесплатно, автор Томас Манн
Que diable allait-it faire dans cette galere?
Moliere, «Les Fourberies de Scapin»
Познай себя! Сравни с другими!
Гёте, «Тассо»
Thomas Mann
BETRACHTUNGEN EINES UNPOLITISCHEN
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1918
© Перевод. Е. Шукшина, 2025
© Издание на русском языке AST Publishers, 2025
Предуведомление
Вручив публике в 1915 году книжечку «Фридрих и Большая коалиция», я полагал, что, уплатив долг «дню и часу», смогу и в бушующем времени снова посвятить себя художественным предприятиям, затеянным до начала войны. Это оказалось ошибкой. Со мной случилось то же, что и с сотнями тысяч, кого война выбила из колеи, «мобилизовала», на долгие годы отдалила и удерживала вдали от непосредственных занятий, профессии; и «мобилизовало» меня не государство и армия, а само время – на более чем двухлетнюю мыслительную службу с оружием в руках, для которой я вообще-то по духовному складу годен не более, чем иной собрат по складу физическому – к настоящей службе на фронте или в тылу, и с которой я возвращаюсь сегодня к осиротевшему верстаку, признаться, не в самом лучшем состоянии, вернее сказать – инвалидом войны.
Плодом этих лет… хотя нет, не «плодом», скорее осадком, огрызком, очёском, правда, может, и следом, следами (причём следами, признаться, страданий), одним словом, подлаживая гордое понятие «остаться» к существительному не самого гордого звучания, – остатками этих лет и стал сей том, который я, имея на то веские основания, побаиваюсь называть книгой или трудом. Ведь двадцать лет не вовсе бездумных художественных занятий всё же внушили мне слишком большое уважение к понятиям произведения, композиции, чтобы я воспользовался ими по отношению к словоизлиянию, реестру, меморандуму, хронике или бортовому журналу. А в данном случае речь именно об этом: писанина-мешанина, хотя временами и принимающая обличье композиции, произведения – впрочем, по полуправу. Ибо следовало бы предъявить органичную, сквозную основополагающую мысль, однако вместо этого обнаруживается лишь зыбкое её ощущение, которым, правда, проникнуто целое. Можно было бы говорить о «вариациях на тему», только вот тема эта имеет крайне нечёткие очертания. Книга? Нет, о книге и речи не идёт. Поиски, метания, нащупывание сути, источников боли, диалектические фехтовальные выпады против них в туман – всё это, разумеется, не могло породить книгу. Ведь одним из таких источников, несомненно, был противохудожественный и непривычный дефицит владения материалом, ясное и постыдное понимание чего не уходило ни на минуту, и его инстинктивно приходилось скрывать лёгкой, самовластной манерой выражаться… И всё же: если произведение искусства может принимать форму и видимость хроники (что мне известно по опыту), то и хроника может принимать форму и видимость произведения; и данный том – по крайней мере, иногда – демонстрирует притязания на оное и его обличье; нечто среднее между сочинением и словоизлиянием, композицией и бумагомаранием, хотя смысловое зерно настолько далеко от сердцевины художественного, настолько, если честно, ближе к нехудожественному, что лучше, невзирая на скомпонованные главы, говорить о чём-то вроде дневника, ранние фрагменты которого следует датировать началом войны, а последние записи – приблизительно концом 1917 – началом 1918 года.
Однако если эти записи не художественное произведение, то именно потому, что как записи и размышления они всё-таки слишком произведение художника, художничества, причём по целому ряду критериев. Например, как продукт некоего неописуемого раздражения на духовные тенденции времени, возбудимости, тонкокожести и нервозной восприимчивости, которую я знал за собой издавна и из которой, полагаю, как художник порой извлекал пользу. Она, правда, всегда вызывала и подозрительную тягу реагировать на подобное раздражение непосредственно по-писательски, аналитически, полемически, даже тогда, именно тогда, когда речь шла не о лёгкой щекотке, а когда я в некой степени был причастен воспринимаемому изнутри: чисто литераторская сварливость, страсть к сварам, в основании которой – потребность в равновесии и которая поэтому всё-таки слишком упорствует в озлобленной односторонности; а при всём том критическое познание не могло похвастаться необходимой способностью к сознанию, слову, анализу, не обладало должной интеллектуальной зрелостью, чтобы всерьёз надеяться найти эссеистическое воплощение. Так, мне кажется, возникают художнические сочинения.
Далее, эти отрывки – художническое произведение по своей несамостоятельности, потребности в помощи и опоре, по бесконечному цитированию и обращению к сильным свидетелям и «авторитетам», этому выражению блаженной признательности за принятое благодеяние и мальчишеского желания дословно навязать читателю то, что ты вычитал себе в утешение, вместо того чтобы прочитанное создавало молчаливую, успокоительную подоснову собственной речи. Впрочем, мне представляется, что при всей неистовости этой жажды в её утолении заметен некий музыкальный такт и вкус: цитирование воспринималось искусством, сравнимым с умением взнуздывать повествование диалогом; цитаты встраивались не без мысли о подобных ритмических воздействиях…
В художническом произведении, художническом сочинении говорит тот, кто привык не говорить, а давать слово – людям и предметам, кто потому предоставляет слово даже там, где, как ему кажется, говорит сам. Остатки исполняемой роли, адвокатство, игра, актёрство, я-выше-этого, остатки безыдейности и поэтической софистики, признающей правоту говорящего в настоящий момент, кем в данном случае являюсь я сам, несомненно заметны повсюду, полуосознание этого практически не покидало меня; но как на духу, всё, что я говорил, ни на миг не переставало быть суждением моего духа, чувством моего сердца. Не мне объяснять парадоксальность подобной помеси диалектики и всамделишных, искренних потуг воли к правде. Ручательством того, что мне было не до шуток, в конце концов служит существование этой книги.
Ибо, право, мне не хотелось бы, чтобы неподобающий тон вводил в заблуждение: я громоздил её в самые трудные годы жизни. Произведение художническое, но не художественное – пожалуй, так, поскольку рождено оно художничеством, потрясённым в основании, попранным в жизненном достоинстве, поставленным под сомнение, художничеством, пришедшим в состояние критического расстройства и утратившим, как выяснилось, всяческую способность к изготовлению чего-то другого. Соображения, из которых оно выросло, по которым его выделка представлялась неотвратимой, состояли прежде всего в том, что любое другое произведение прогнулось бы под чрезмерным интеллектуальным грузом: точный расчёт, до поры не осознававший реального положения дел. Ведь дальнейшая работа над другими вещами казалась вовсе невозможной и, как стало ясно после ряда попыток, оказалась невозможной, причём в силу духовных обстоятельств времени, взбудораженности всего дотоле покойного, потрясения всех культурных основ; в силу не исцелимого художественными средствами бурления умов, голой невозможности делать, опираясь на «есть», расщепления и усложнения самого этого «есть» под воздействием времени и его кризиса; в силу необходимости осмыслить, раскрыть и защитить это «есть», которое загнали в угол, поставили под сомнение, которое как культурный фон утратило прочность, самоочевидность, неосознаваемость; иными словами, в силу неизбежности пересмотра всех принципов художничества, самопознания и самостояния художничества, без чего его использование, воздействие и бойкое производство, да вообще любое делание казались отныне чем-то невозможным.
Но почему же именно мне? Почему мне – галера, а другие проскочили? Я ведь отлично вижу, что для художников всех родов, коли война пощадила их физически, а кризис, исторический перелом застали примерно на том же возрастном этапе, что и меня, эти кризис и перелом вовсе не стали помехой в производстве, а если стали, то совсем ненадолго. В эти четыре года создавались и издавались произведения художественной литературы, а также музыки, изобразительного искусства, принося своим творцам славу, благодарность и блаженство. Подоспела молодёжь, её радушно приняли. Но и художники более почтенного возраста, более даже почтенного, чем мой, не буксовали, доводили до конца начатое, выдавали уже привычное, присущее своей культуре, таланту, и почти казалось, будто изделия их тем желаннее, чем менее затронуты происходящим и напоминают о нём. Ибо спрос публики на искусство даже вырос, её признательность за свободное творение стала пылкой, как никогда, перспективы на любого рода вознаграждение, материальное в том числе, особенно радужны. Это всё captatio benevolentiae, я и не скрываю. Указывая, с какими лишениями оказалась сопряжена эта книга, я в самом деле желаю расположить к ней читателя. Свои сокровенные планы, а их осуществления многие (поставить ли им это на вид или в заслугу) ожидали не без любопытства и нетерпения, я отложил, дабы осилить произведение словесности, о внутренней и внешней пространности которого я, правда, и на сей раз не имел даже приблизительного представления – в противном случае, невзирая ни на что, едва ли бы за него взялся. Прекрасно помню, поначалу рвение моё было немалым, мною двигала вера, будто я могу сказать себе и другим много хорошего, важного. Но затем… какое растущее беспокойство, какая ностальгия по «свободе в ограничении», какая гложущая тоска по упущенным месяцам, годам, какая мука из-за невыразимо компрометирующей и дезорганизующей сути всякого словоговорения! Однако буде пройден момент, когда можно ещё пойти на попятную, бросить всё и дать дёру, «выстоять» становится императивом, скорее даже экономическим, нежели нравственным, хоть воля к завершению, когда о завершённости и помыслить нельзя, непременно приобретает нечто героическое. Для подобных исканий и писаний существует лишь один девиз, объясняющий всё их безрассудство, всю жалкость, не перечёркивая вовсе. Он содержится во «Французской революции» Томаса Карлейля и звучит так: «Знай же, что эта Вселенная есть то, чем и представляется, – бесконечность. Не пытайся поглотить её, полагаясь на свою логическую силу пищеварения; радуйся, если, ловко загнав в хаос пару крепких опор, помешаешь ей поглотить тебя».
Ещё раз: почему же, говоря словами клоделевой Виолены, пришлось «потрудиться моей плоти, а не моему христианству»? Разве моя душевная ситуация была особо тяжела, что так нуждалась в разъяснении, изложении, защите? Сорок лет – это, знаете ли, критический возраст; ты уже не молод; примечаешь, что будущее уже не общее, а всего лишь твоё собственное. Тебе приходится доводить до конца свою жизнь, которую уже обогнал мировой поток. Над горизонтом взошло новое, отрицающее тебя, не имея возможности отрицать, что было бы иным, если бы тебя не было. Сорок – жизненный перелом; а когда перелом в личной жизни сопровождается грохотом слома мирового и превращается в кошмар для сознания (о чём я буду говорить), это не мелочь. Но и другим было сорок, а их вывезло. Значит, я оказался слабее, уязвимее, уязвлённее? Значит, мне настолько недостало гордости, внутренней твёрдости, что я, чуть не запустив маховик саморазрушения, полемически потонул в новом? Или мне расписаться в особо раздражимом чувстве солидарности с эпохой, моей особо мнительной, впечатлительной, ранимой заданности временем?
