Дэвид Гребер: Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре
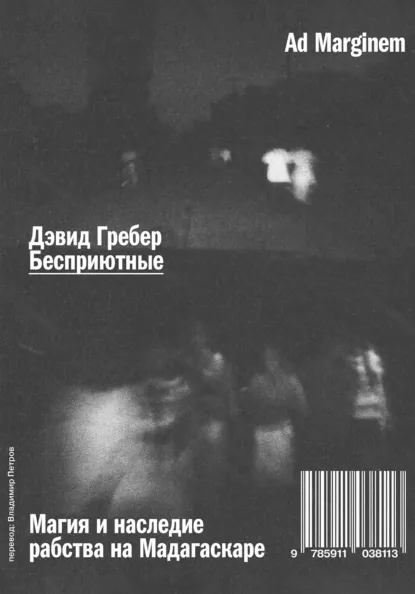
- Название: Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре
- Автор: Дэвид Гребер
- Серия: Нет данных
- Жанр: Антропология, Зарубежная образовательная литература, Зарубежная публицистика, Социология
- Теги: Вопросы современности, Обычаи и традиции, Психология труда, Социальное неравенство, Социологические исследования, Человек и общество
- Год: 2007
Содержание книги "Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре"
На странице можно читать онлайн книгу Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре Дэвид Гребер. Жанр книги: Антропология, Зарубежная образовательная литература, Зарубежная публицистика, Социология. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
В 1989 году антрополог Дэвид Гребер отправился в горные районы Мадагаскара, где после недавней катастрофы – масштабного голода, разразившегося из-за нарушения местных обычаев, – царит напряженность. Он проводит длительные полевые исследования в сельской общине Бетафо, разделенной на потомков дворян и рабов. Изучая организацию общества и историческую память малагасийцев, автор показывает, как реализуется политическое действие при отсутствии формальных иерархических институтов власти и как политика выстраивается вокруг повседневных практик, например, рассказывания историй, направленных на удержание людей от открытых столкновений. «Бесприютные» демонстрируют, что политическое действие может быть формой повествования, а антропологическая этнография – инструментом для понимания того, как общества работают со сложным историческим прошлым, предотвращая скатывание в бездну массового насилия.
Онлайн читать бесплатно Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре
Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре - читать книгу онлайн бесплатно, автор Дэвид Гребер
Lost People: Magic and the Legacy of Slavery in Madagascar
by David Graeber
Copyright © 2007 by David Graeber
First published 2007 by Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.
© Estate of David Graeber.
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
* * *
Моей матери, которая хотела дожить до выхода этой книги в свет
Предисловие и изъявления благодарности
Отправляясь на Мадагаскар, я взял с собой различные сочинения Достоевского: «Идиот», «Братья Карамазовы», «Записки из подполья» и несколько сборников (еще у меня были Гоголь и Пинчон, но в основном – Достоевский). Думаю, это одна из причин, по которым книга вышла такой объемной. Позже Дейл Песмен указал мне на то, чего я не заметил тогда: Рацизафи, как я его изобразил в главе 9, очень напоминает персонажей Достоевского. Поразмыслив над этим, я понял, что, действительно, моя книга – нечто среднее между этнографическим трудом и толстым русским романом.
Когда я приступал к ней, то знал лишь одно: я попробую написать этнографическую работу, имеющую вид диалога. В 1980-е годы и начале 1990-х меня раздражали бесконечные монологи о том, что труды этнографов должны стать более «диалогичными». «Почему бы вам не заткнуться, – задавался я вопросом, – и не написать такой труд?» В те времена американские ученые только начали открывать для себя Бахтина. Диалогизм был в моде. Я прочел «Франсуа Рабле», множество книг и эссе Бахтина и о Бахтине, но почему-то так и не открыл его книгу о Достоевском, где содержится его практический анализ диалогического письма. Вместо этого я бессознательно обратился к первоисточнику.
Поэтому книга во многом построена вокруг персонажей в обоих смыслах слова: «чудак, оригинал» и «герой истории». Это означает также, что повествование разворачивается на стыке политики и истории, там, где повседневная жизнь, обычно текущая по умолчанию, ставится под сомнение и становится предметом обсуждения; в ходе этого может родиться что-нибудь новое. В конце концов, необычные персонажи помогают нам определить норму и являются скрытым резервом на случай изменений. Но я также касаюсь самой сути каждого из них, личных и моральных качеств.
Конечно, диалог может быть разным. Большинство этнографов ведут, по крайней мере, диалог со своими коллегами. У меня его почти нет. Конечно, общение имеет место, но я писал свою книгу, не намереваясь участвовать в каком-либо из современных споров, чего бы они ни касались – антропологии, Мадагаскара и так далее. Все теоретические выкладки (кроме тех, пожалуй, что приводятся в конце) совершенно специфичны и являются плодом моих собственных размышлений. Некоторые считали это неразумным, но Маршалл Салинз, мой научный руководитель, выразил полное понимание и оказывал мне всяческую поддержку. «Вы создаете сокровище на все времена», – говорил он, перефразируя Фукидида. Конечно, в его словах звучала ирония – он писал тогда работу, где высмеивал Фукидида как раз за это изречение; но, в конце концов, мы всё еще читаем Фукидида две с половиной тысячи лет спустя, и в этом трудно было усмотреть что-либо, кроме желания подбодрить меня. Так или иначе, я очень рад, что не стал писать книгу с целью вмешаться в какую-либо тогдашнюю дискуссию – иначе она никогда не вышла бы. На ее написание ушло несколько лет, а публикация состоялась еще через десятилетие. За это время появилось несколько превосходных трудов: Дженнифер Коул написала о народе бецимисарака[1], коснувшись тех же тем, что и я, а именно памяти и насилия, Сандра Эверс – о рабстве в южном Бецилео. Могла бы образоваться интересная перекличка с моей работой. Но всё это подождет. Я лишь добавил несколько ссылок, которые, по-моему, могут быть интересны читателю, а в целом оставил всё как есть. Мне кажется, будет честнее, если книга останется диалогом с теми, с кем я действительно беседовал при работе над ней. Не стоит делать случайные вставки, притворяясь, будто я веду диалог с кем-то еще.
В процессе написания книги меня слегка беспокоили некоторые правила написания научных трудов. Предполагается, что монография представляет собой этнографическое исследование, подкрепленное теоретическими соображениями, причем в ее основе лежит некий фундаментальный тезис. Мне постоянно советовали переработать книгу в этом духе. Почему бы не расширить подход, спрашивали меня коллеги, не написать о кризисе государства в Африке, о грузе прошлого, о рабстве? Эти советы давали из самых благих побуждений и звучали очень разумно, если учесть, что большинство научных монографий хорошо расходятся в том случае, когда они являются обязательным чтением для студентов. Но это всегда казалось мне неправильным – в том смысле, что нужно совершать насилие над собственным опытом. Вспоминаются утверждения, например, о том, что в основе балийской культуры лежит иерархия, или ритуал, или что-нибудь еще. Вздор! Нет того, что лежит «в основе» культуры. Ее основу составляет всё. Люди живут не для того, чтобы доказывать точку зрения какого-нибудь исследователя. Этнографы всегда стремились – во всяком случае, как думал я, – описать некий универсум, способ существования, или хотя бы дать ключ к нему. Задним числом эти устремления кажутся слегка самонадеянными и прямолинейными. И всё же в них больше уважения к людям, чем в намерении сделать жизни тех, кто был твоими друзьями, иллюстрацией к некоему всеобъемлющему тезису. Разумеется, в моей книге недостает теоретических выкладок, но мне хочется думать, что теория открывается сама – в диалогах с моими мадагаскарскими собеседниками. Единственное исключение – теория нарратива, созданная, когда я работал в столичных архивах. Но и она оказалась несостоятельной, когда я стал слушать рассказы людей (хотя сама по себе выглядит любопытно).
Перейду к изъявлениям благодарности. Прежде всего выражаю признательность моему издателю Ребекке Толен за проявленное терпение и за ее вклад в появление этой книги. Иногда мне кажется, что издателей следует упоминать как соавторов – а их имена, наоборот, не указываются нигде. Кристи Лонг оказала мне громадную помощь в подготовке рукописи к изданию.
Перечислю также студентов, коллег и друзей, которые так или иначе способствовали выходу книги: Морин Андерсон, Нина Бхатт, Морис Блох, Ричард Бергер, Ален Кай, Дурба Чаттарадж, Дженнифер Коул, Джон Комарофф, Джин Комарофф, Дженнифер Дрэгон, Сандра Эверс, Джиллиан Фили-Харник, Магнус Фискешё, Томас Хансен, Лори Харт, Джозеф Хилл, Дженнифер Джексон, Иван Карп, Пир Ларсон, Майкл Ламбек, Нху Тхи Ле, Мун-Хи Ли, Лорен Лив, Энрике Мейер, Уайатт Макгаффи, Кристина Мун, Дейл Песмен, Илона Райцимринг, Эли Радзаонарисон, Жан-Эме Ракотоарисоа, Жак Ракотонайво, Кертис Реноэ, Миека Ритсема, Стюарт Рокфеллер, Маршалл Салинз, Ариан Шульц, Майкл Сильверстайн, Рэймонд T. Смит, Теренс Тёрнер, Дэвид Уоттс, Хилтон Уайт, Чжэнь Чжан, все обитатели Арсивам-Пиренены, особенно Нико, которого мне очень не хватает, Шанталь, Патриция и Парсон, а также мои остальные добровольные помощники и все, кто упоминается в этой книге, – особенно, конечно, члены семей Армана и Миаданы, но, еще раз повторяю, я благодарю всех. Сама эта книга задумывалась как изъявление признательности, дань уважения и свидетельство: именно ради вас я старался сохранить ее в нынешнем виде – чтобы отразить, хотя бы отчасти, ваш целостный взгляд на окружающую действительность.
1. Бетафо, 1990
Бетафо заинтересовал меня в первую очередь тем, что его жители не ладили между собой. Многие почти не разговаривали друг с другом. Известно, что, если община разделена таким образом, никто не хочет об этом говорить. Уж точно не с чужаками. Чаще всего люди не хотят склонять пришлых на свою сторону, считая такое положение позорным для всех, кто в этом замешан. При общении с чужаками местные всегда стремятся подчеркнуть сплоченность внутри своей общины, чтобы обрести нравственный авторитет, представая как ее часть; если такая сплоченность явно отсутствует (как в Бетафо), все упорно молчат.
Но в Бетафо было иначе. По крайней мере, когда я в первый раз встретился с ее жителями, кое-кто охотно рассказывал о местных конфликтах – в основном потому, что по тем или иным причинам желал оказаться над схваткой. Хотя я и в дальнейшем знал этих людей лучше остальных, как только стена молчания дает трещину, она, как правило, рушится полностью; как только становится известно, что кто-то заговорил, все начинают думать, что, возможно, надо высказать свою точку зрения. Во всяком случае, так было в Бетафо.
Первым, с кем я познакомился в Бетафо, был Арман Рабеаривело. Я жил тогда в Аривонимамо, городе с приблизительно десятитысячным населением. Арман привозил туда бананы с побережья, снабжая ими большинство торговцев в городе и окрестностях. На рынке всегда можно было видеть двух-трех его работников, стоявших за огромными кучами бананов. То были молодые люди необычного вида: красные береты, форма военного образца. Надо сказать, что в этой части Мадагаскара около трети всех жителей именуются олона майнти – «черные люди»: обладая более темной кожей, чем представители «белого» населения[2], они в основном являются потомками рабов, завезенных в XIX веке. В отличие от большинства «черных» людей, населяющих сельские районы Имерины, Арман и его работники практиковали стиль, отсылавший к африканским националистическим плакатам, которые были популярны в столице страны на рубеже 1970—1980-х годов, и в целом к революционным движениям Третьего мира. Они слушали регги и фанк. Арман, высокий, с небольшой бородкой, бесцеремонный (во всяком случае, по мадагаскарским меркам), но, к счастью, добродушный от природы, был виднейшим левым политиком в этих краях.
Арман считал, что стоит выше всех ссор в Бетафо, поскольку принадлежит к куда более обширному сообществу. Сын бедных родителей, он достиг известного положения, поскольку учился в коллеже. Всячески подчеркивая свою принадлежность к африканскому миру, он тем не менее считал любые линии разделения между людьми – например, между черными и белыми, – проявлением расизма, невежества и близорукости, которые свойственны обитателям деревни. Все здравомыслящие люди, с его точки зрения, должны были объединиться для борьбы с этим. Но о его жизни и взглядах я узнал лишь впоследствии, когда Арман и его жена Нети стали моими близкими друзьями. Пока же мне было известно лишь, что это знакомый моего друга Рамоса Парсона.
Парсон преподавал биологию в Высшей католической школе. Его жена держала отели – ларек с едой на рынке. В первые два месяца моего пребывания в Аривонимамо я то и дело оказывался у этого ларька. Арман и Парсон были давними партнерами по выпивке. После обеда, когда Арман заканчивал с делами и ему нечем было заняться, он часто захаживал в заведение супруги Парсона.
В те времена я записывал рассказы людей, проживавших в окрестностях Аривонимамо, и Парсон часто отправлялся со мной. Узнав о моих занятиях, Арман сразу же вызвался подвезти нас в Бетафо. Там, по его словам, некогда жила известная андриана, наследница королевского престола, по имени Андрианамбонинолона. Ее потомки по-прежнему обитали в этом месте.
Все полагали, что андриана – это очень интересно. Холмы в тех краях были усеяны королевскими могилами, куда люди совершали паломничество, желая исцелиться или просто в знак почтения. Слово андриана, однако, имеет более широкое значение, обозначая не только королей и их наследников, но и всех, кто принадлежит к королевскому роду в наши дни. Примерно треть «белых» были андрианами, остальные же относились к хува[3], простонародью. Поэтому население Бетафо делилось не столько на «белых» и «черных», сколько на выходцев из благородного сословия и потомков рабов.
