Ольга Дунаевская: Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах
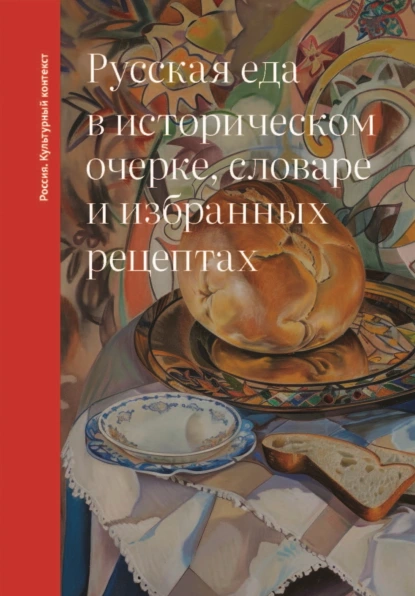
- Название: Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах
- Автор: Ольга Дунаевская
- Серия: Россия. Культурный контекст
- Жанр: Кулинария, Популярно об истории
- Теги: Иллюстрированное издание, Исторические очерки, Кулинарные рецепты, Национальная кухня, Национальные традиции, Русская культура, Русская кухня
- Год: 2025
Содержание книги "Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах"
На странице можно читать онлайн книгу Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах Ольга Дунаевская. Жанр книги: Кулинария, Популярно об истории. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Книга, которую вы держите в руках, посвящена русской еде, но это не сборник рецептов, хотя и они здесь есть. В ней – о становлении «русского меню» и его особенностях; о том, какой утварью пользовались наши предки за едой и в своих «поварнях»; как формировался российский фастфуд, и какими были наши первые рестораны. Мы вспомним пословицы, идиомы и поверья, связанные с едой, поговорим об истории русской поваренной книги, уточним происхождение многих «съестных» наименований.
Во второй части вы найдете рецепты вышедших из обихода русских блюд, которые встречаются в исторической и художественной литературе.
Онлайн читать бесплатно Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах
Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах - читать книгу онлайн бесплатно, автор Ольга Дунаевская
Ольга Дунаевская
Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах
«Никогда не откладывай на ужин того, что можешь съесть за обедом»
Петр Абрамович Ганнибал, двоюродный дед А. С. Пушкина
Серия «Россия. Культурный контекст»
© Дунаевская О. В., 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предуведомление
Текст, который вы открываете, посвящен русской еде в ее изначальном варианте. Становление русского меню, причины и традиции, которые сделали его таким, а не иным, его возрастные изменения – вот то, что меня занимало, когда я бралась за эту работу.
Но история еды тесно связана с событиями частной человеческой жизни, поэтому иногда вы будете сталкиваться с биографическими экскурсами, способными, на мой взгляд, осязаемо дополнить сухой гастрономический пассаж.
Текст состоит из трех основных частей: а) собственно исторического очерка (в нем естественным образом будут и описания некоторых блюд, и технология их изготовления, однако без деталей), б) словаря блюд и терминов (в основном, упомянутых в очерке) и в) тех рецептов, которые, с моей точки зрения, могут быть без особого труда воспроизведены на современной кухне, являясь при этом аутентичными.
Поговорим мы и об утвари, которую использовали на старинной поварне (кухня – немецкое слово, оно появилось в языке лишь в XVIII веке), и о том, в чем хранились заготовки и как делались припасы, о столовой посуде, из которой ели и пили наши предки. Узнаем меню как богатого, так и крестьянского обеда, поговорим о том, кто и что ел в пост. Разберемся, от каких «родителей» произошел ресторан в России и что представлял собой первый русский «фастфуд».
Отдельного разговора достойна этно-филологическая тема, а именно: блюда, подававшиеся в праздники, как религиозные, так и народные, а также бытование еды в фольклоре: пословицы, поговорки и идиомы, связанные с пищей.
Должна сказать, что работать над этим текстом было увлекательно, потому что всегда интересно знать свою историю в любых областях жизни. И хоть, конечно, текст этот во многом компилятивный, то есть он не мог бы появиться на свет без множества других текстов и книжек, которые я прочла, все же по ходу дела приходилось думать и уточнять некоторые термины, наименования блюд, их этимологию, то есть происхождение того или иного названия, а также делать свои выводы по разным сюжетам. А кроме того, работа над ним очень помогла мне в трудную минуту жизни.
Смею надеяться, что хотя бы некоторым читателям этого опуса затронутые в нем сюжеты тоже покажутся интересными, а уточненные наименования – обоснованными.
Автор
Часть первая
Глава 1
Хлеб да сыта – вот мы и сыты
(формирование национального съестного меню)
С каким только видом человеческой деятельности ни сравнивали работу повара! И с работой разведчика, и поэта, и художника. На мой же взгляд, она ближе всего к бытовому волшебству, ну и немножечко – к профессии медика. Ты берешь простой и грубый продукт, часто совершенно несъедобный в первоначальном виде, соединяешь его с массой других продуктов, приправ и специй и получаешь нечто новое, невероятное и очень вкусное. Ну и, конечно, ты помнишь основную заповедь эскулапа – «не навреди». Ведь еда – это то главное, чем занят родившийся человек и что сопровождает нас всю нашу жизнь. Это то горючее, без подпитки которым наш двигатель – человеческий организм – не способен работать. Поэтому кухня – равноправная часть жизни и культуры любого народа.
Проведя в тишине и безвестности крестьянское детство, дворянское отрочество и советскую юность, русская кухня напоминает о себе по видимости совсем некстати. Сытная, обильная, жирная – ложка в сметане должна стоять – русская кухня, казалось, обречена на вытеснение более здоровыми кулинарными традициями – средиземноморской или японской. Однако в то время как производители и потребители продуктов борются с жирами, калориями и холестерином, русские рестораны стали весьма посещаемыми. Как же складывался традиционный русский набор блюд и каковы основные принципы их изготовления?
Россия – и разрезанная на отдельные княжества, и сложившаяся в единое государство, – всегда была огромной, инертной массой, с бесконечными, плохо проезжими дорогами, долгой зимой, трудной и влажной весной, такой же осенью и часто плохим летом: то слишком засушливым, то слишком холодным или слишком дождливым. Подобный климат (на основной территории страны) не располагал к богатому ассортименту продуктов. Чуть не половину года здесь холодно, на некоторых территориях – и дольше. А северному народу, да еще крупногабаритному – русские в среднем были выше средиземноморских народов, – без сытной пищи не выжить.
Традиционная русская кухня, пишет историк Н. И. Костомаров, была вполне «национальная, т. е. основывалась на обычае, а не на искусстве. Лучшая повариха была та, которая присмотрелась, как готовится у людей. Изменения в кушаньях вводились незаметно. Кушанья были просты и не разнообразны, хотя столы русские и отличались огромным количеством блюд; большая часть этих блюд были похожи одно на другое…»[1] По традиции, состоятельные люди делали роспись своего меню чуть ли не на год вперед. Под определенный набор продуктов выделялись необходимые средства, отводились места для хранения. Меню сообразовывалось с постами и церковными праздниками. Почти полгода на Руси длились православные посты. Они соблюдались всеми – и царем, и крестьянином. Так что русский съестной календарь делился на постный и скоромный. (Забавно, что слово «скоромный» созвучно со словом «скромный», но имеет совсем другое значение: жирный, масляный, разгульный. Оно происходит от общеславянского «скорм» – «жир».) Хотя соблюдался запланированный список блюд и не очень жестко: всегда можно было заменить одно кушанье другим по «хотению». Припасы делились на пять наименований: растительные, мучнистые, молочные, рыбные, мясные.
Начнем наш разговор, конечно же, с хлеба. Потому что даже если в доме пусто, но есть кусок хлеба и немного воды, можно еще как-то продержаться. Выражение «жить на воде и хлебе» как минимальном возможном запасе вполне обоснованно.
Помню, знакомый родителей, просидевший в ГУЛАГе четверть века и попавший туда 19‑летним юношей, рассказывал, что после освобождения он был в отчаянии – нет ни одежды, ни денег, ни жилья, ни близких – все за эти годы погибли, кто на войне, кто в лагере, а кто в блокадном Ленинграде. Он был родом оттуда. Профессии тоже не было, и он с тоской подумал, что скоро придется умирать с голоду. Лагерников на работу не брали. И вот, войдя в буфет на полустанке, куда его довезли после освобождения, он не поверил своим глазам: в вазах на каждом столе стоял крупно накромсанный серый формовой хлеб. Он взял себе чаю с сахаром за три копейки и, глотая с чаем слезы, сказал себе: «Хлеб есть, значит, еще поживем». В конце 50‑х – 60‑е годы XX века хлеб в столовых и вообще в точках общепита давали бесплатно.
Итак, «хлебенное». Какой хлеб в старые времена ели русские, как бедные, так и богатые? Ржаной. Его даже предпочитали белому, справедливо считая более здоровым для желудка. Слово «хлеб» общее для многих языков: общеславянского, готского, раннегерманского и других. Означает – «выпечка из муки». У древних так же называлась и емкость для выпечки.
На Руси к ржаной муке иногда примешивали и ячневую (ее называли «ячная», она делается из ячменя). Пшеничную муку использовали для церковных нужд – на ней пекли просфоры, а в быту она шла на выпечку, например, калачей.
Итак, калач. Этот чудесный и почему-то вышедший из ассортимента пекарен хлеб еще в 80‑х годах XX века можно было купить во многих булочных. Он бывал двух сортов – глянцевый, с поджаристой корочкой на «губе» и на «ручке», и матовый, совсем белый, невероятно пористый, да еще щедро обсыпанный мукой: с другими продуктами рядом не положишь – все «обмучнит». Помню, как идучи из школы всегда заходила в булочную между школой и домом и покупала там этот мягкий, обычно еще теплый хлеб. Он стоил 10 копеек и был похож на большой белый замк. Его удобно носить за ручку, как дамскую сумочку, а попутно откусывать нежнейшие куски.
Может, благодаря своей форме калач был одним из первых русских фастфудов; его покупали для перекуса; ели часто грязными руками, держа за эту самую ручку. А ее потом отдавали нищим. Отсюда и выражение «дошел до ручки», оно имеет два значения: дошел до предела возможного, съел все, что естся; и второе – опустился до того, что и ручку съел.
Часть сумочки калача, которая внахлест закрывает мякиш, называется «губа». Когда выпекали калач, на нем делали специальный надрез. Губу раскатывали, потом посыпали мукой и прикрывали ею вкусную сумку-замочек: так губу закатывали. И возникла поговорка: «Что губу раскатал?» (Хотя раньше говорили «закатать губу» в значении «сильно чего-то захотеть».)
Со временем в уже готовом калаче эту губу начали приподнимать и мазать маслом, которое быстро пропитывало теплый пушистый мякиш. А позже стали часть мякиша вынимать и начинять калач рубленым мясом, например. Вот и готов вкуснейший прадед гамбургера. Добавляли в калачи и кусочки сельди, и любую другую начинку. Калачи выпекали из очень хорошей муки – она называлась «крупитчатая», хотя вообще-то была, наоборот, самого мелкого (или тонкого – так говорили) помола. К слову: весь хлеб на Руси выпекался раньше без соли.
Слово «калач» происходит от общеславянского «круглый». И на Руси известны были разные виды калачей. К примеру, братские калачи – большие круглые булки, они делались из более грубой, толченой муки (она изготавливалась из пропаренных, потом высушенных, а после еще и обжаренных зерен, ее толкли, а не мололи). Были еще и смесные калачи – из смеси пшеничной и ржаной муки. Такие, кстати, любили при царском дворе.
Калачи, ситники, сайки сейчас исчезли, зато к нам вернулся старинный подовый хлеб. Это хлеб, выпеченный не в форме, не формовой (который в народе называют «кирпичик»). Подовый пекли в нижней части печного свода, который имел название «под»; он прогревался до 200° C; после топки, когда сгорали дрова, из пода выгребали золу, выметали ее гусиным крылом и на ее место с помощью хлебной лопаты сажали будущие хлебины. Выпекавшим не полагалось разговаривать – чтобы не вспугнуть хлеб. Подовый считается полезным хлебом, он содержит в себе мало влаги.
Но это все был хлеб для людей с достатком. Какой хлеб ели бедняки? Часто это был отрубной хлеб. В муку добавляли отруби и даже – в голодные годы – измельченную траву. Тесто замешивали в огромных кадках и хранили квашню в подполе.
Брали куски для опары и выпекали по мере надобности. Последняя порция теста была перекисшая. Корка у такого хлеба была жесткая, неугрызная, поэтому его еще горячим заворачивали в мокрую ветошь – чтобы корку размягчить. А зимой такие хлебины выносили испеченными в сени – там они замораживались и хранились впрок.
А где хлеб, там и пироги. Пироги на Руси готовились на закваске. Дрожжи (современные, грибковые) появились лишь в конце XIX века. До того использовали несколько видов заквасок: а) солод (ферментный продукт, который получают из ростков пророщенного ячменя или ржи); б) самозакисающую ржаную закваску, шмат которой просто всегда оставляли в квашне; в) заболонь (внутренняя часть коры ивы или ольхи)[2].
Пироги делились на пря́женые и, как и хлеб, подовые. Пряже́ние – это вид обжарки в русской печи. Особенность процесса заключалась в том, что пирог не должен был плавать в масле, оно его покрывало на 1/3, а само масло надо было прокалить добела – тогда нет бульканья и брызг во время жарки.
