Никита Сюндюков: Русская философия в 7 сюжетах. «Немота наших лиц»
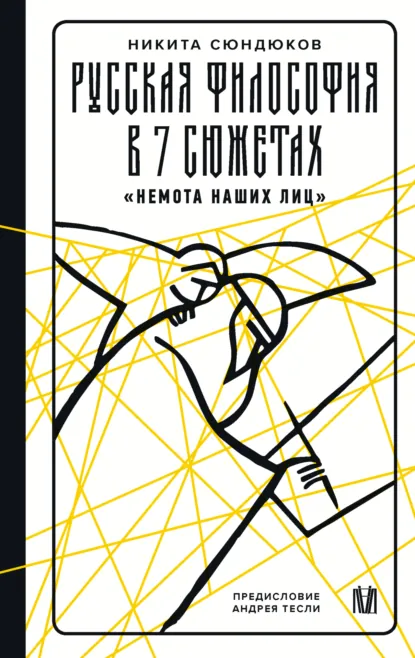
- Название: Русская философия в 7 сюжетах. «Немота наших лиц»
- Автор: Никита Сюндюков
- Серия: Российская академия (АСТ)
- Жанр: Книги по философии, Философия и логика
- Теги: Русская философия, Философский анализ, Философский подход, Философско-исторические размышления, Философско-культурные размышления
- Год: 2024
Содержание книги "Русская философия в 7 сюжетах. «Немота наших лиц»"
На странице можно читать онлайн книгу Русская философия в 7 сюжетах. «Немота наших лиц» Никита Сюндюков. Жанр книги: Книги по философии, Философия и логика. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Почему русская философия так упорно отрицает свое существование?
Через 7 сюжетов, главные герои которых – Чаадаев, Достоевский, Соловьёв, Мережковский, Бердяев, Шестов, Булгаков и Флоренский, Никита Сюндюков объясняет, почему русская философия тесно переплетена с литературой и религией и неизменно тяготеет к поиску истины, меняющей мир.
Никита Сюндюков – старший преподаватель РАНХиГС в Петербурге, преподаватель образовательного центра «Сириус», автор изданий «Фома» и «Стол». Автор книги «Здесь был Достоевский» (2025) и телеграм-канала «Лаконские щенки».
Онлайн читать бесплатно Русская философия в 7 сюжетах. «Немота наших лиц»
Русская философия в 7 сюжетах. «Немота наших лиц» - читать книгу онлайн бесплатно, автор Никита Сюндюков
Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается
© Н. К. Сюндюков, 2024
© А. А. Тесля, статья, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *
Посвящается моей жене Юлии
Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь.
Л. Толстой. Война и мир
Вечный спор
Существует ли русская философия? Это один из «вечных» вопросов. Ровно оттого, что «философия» не вещь, по поводу нее невозможен спор того же рода, что о существовании или отсутствии стола (излюбленного примера из философских лекций, на котором какие только теории не излагались).
В споре о существовании или несуществовании «русской философии» сразу несколько пластов. Во-первых, это спор о самой природе философского знания: может ли оно быть привязано к тому или иному национальному, культурному контексту, можем ли мы говорить о множественности философий – или же философия едина и если и есть русские философы, подобно тому как есть немецкие или были древнегреческие, то это лишь обстоятельства места и времени, случайная подробность, которая значима для биографий и интеллектуальных историй, но в сугубо философском разговоре не существенна.
Во-вторых, в ином ракурсе это спор о том, возникло ли, сформировалось ли некое целое, которое именно в философском смысле можно рассматривать как обладающее своей собственной историей и связностью. Здесь уже (и это, кстати, не исключает первого ракурса – то есть если мы ответим радикальным согласием на тезис о единстве философии) вопрос состоит в том, можем ли мы выделить русскую философию подобно тому, как выделяем, например, средневековую или древнегреческую (и обратите внимание на то, как меняются здесь критерии выделения). Иными словами, есть ли в этом целом свой собственный философский сюжет – или же объединение множества авторов в «русскую философию» оказывается внешней рамкой, где существенно совершенно другое: например то, что одни – гегельянцы, а другие – лейбницианцы (и разумнее тогда, быть может, окажется рассматривать первых в рамках общего понимания гегельянства, а вторых – вместе с испанскими или бразильскими лейбницианцами).
Можно попытаться утвердить существование «русской философии», отождествив ее с философствованием на русском языке. И автор, кажется, к этому близок, настаивая: «Мы философствуем на своем родном языке» и «Всякая попытка философствования вынуждена быть национальной, мы из этого не выскочим». Легко привести возражения, вспомнив хотя бы о средневековой философии, ведь университетская латынь не была родным языком ни для Фомы Аквинского, ни для Бонавентуры, да и греческий не был родным для Марка Аврелия, если вспоминать времена еще более давние. В Московском университете защищали диссертации на латыни еще в первые десятилетия XIX века, на ней же многое писал Лейбниц, а стремясь говорить о важнейшем, то есть оправдывая Бога, всемогущего и всеблагого и тем не менее создавшего мир, в котором есть зло, переходил на французский. И Чаадаев напишет свои философские произведения по-французски, равно как по-французски будет написана та брошюра Хомякова, где вводится понятие «соборность» (появившееся в посмертном переводе на русский). И здесь перед нами очевидная трудность – ведь ни Хомякова, ни Чаадаева мы из истории русской философии (по крайней мере так, как ее понимает автор) никак не исключим, – и сам автор настаивает, что история последней (или ее классической эпохи) начинается именно с Чаадаева. Выходит, что русская философия явно не тождественна философии на русском языке – и не только потому, что совершенно не очевидно, всех ли авторов, писавших по-русски, следует в нее включать, но и потому, что к ней принадлежит целый ряд текстов, написанных на иных языках.
И как раз пример Чаадаева позволяет нам увидеть другую сторону и другую возможность – ведь, написав свои «Философические письма» на рубеже 1820–1830-х годов, написав по-французски, он настойчиво пытается их опубликовать, и опубликовать именно в России. Речь идет именно о том, чтобы донести их до «публики», говоря языком того времени – не некоего неопределенного круга читателей, а именно до русского образованного общества. Иными словами, даже написанные на разных языках, эти произведения так или иначе учитывают, обращаются, отталкиваются от определенного сообщества – авторы не говорят «в вечность» (или, по крайней мере, говорят не только в нее), но надеются быть услышанными другими, возражают, соглашаются, продолжают их. В этом смысле философия, разумеется, ничуть не обязана быть национальной – как и сказано выше, история дает нам массу примеров других устройств философского общения. Но там, где возникают национальные общности модерного типа, то есть национальные литературы, национальные образовательные пространства, национальные рамки оказываются зачастую первостепенными. То есть зачастую оказывается возможным рассказывать историю национальной философии как имманентный процесс, «изнутри»: внутренние связи, смены поколений, реакции на вызовы и проблемы национальной жизни оказываются намного существеннее, чем внешние факторы.
И наконец, русская философия существует уже потому, что было и есть некоторое количество людей, которые воспринимали себя и воспринимались окружающими в качестве русских философов – и потому, что существует вереница текстов, описывающих и анализирующих русскую философию. Ведь каждая «история русской философии» не только выступает описанием, но одновременно и создает свой собственный предмет.
В первом сюжете автор прямо говорит, что выбираемые им способ и ракурс изложения обусловлены стремлением рассказать историю – то есть нечто, имеющее начало, середину, конец и внутреннюю связность. История в этом смысле – нечто регулярно переписываемое, ровно потому, что дальнейшее движение вновь и вновь порождает вопросы: 1) остаются ли ее смыслы актуальными для нас; 2) не привнесло ли дальнейшее иного понимания предшествующего; 3) является ли минувшее частью нашей нынешней, «своей» истории – или же оно стало чужим и, быть может, чуждым. Со многим сказанным в книге мне трудно согласиться – и многое, с чем я согласен, хотелось бы сказать иными словами. Но предисловие не то место, где спорят с автором, уже хотя бы потому, что оно предшествует книге. Она уже написана, но ее лишь предстоит прочесть, а автор предисловия находится в сложной роли, располагая свой текст сразу в нескольких перспективах: в предположении, что читатель либо подчинится порядку страниц, продвигаясь от титульного листа к последней странице, и, следовательно, предисловие действительно будет прочитано первым, либо нарушит последовательность, сначала обратившись к книге, а лишь затем поинтересуясь предисловием, соотнеся его с собственным восприятием текста, или, бегло прочитав вначале, вернется к нему уже после. Но все-таки главная роль предисловия – сказать, отчего и зачем стоит читать книгу, которая перед вами. А читать ее стоит потому, что эта «история в семи сюжетах» – попытка всерьез философствовать на основе того, что автор называет «классической русской философией», то есть воспринять ту мысль прошлого как живую, как длинный разговор, к которому мы причастны, утверждая тем самым единство истории.
Предисловие
Некоторое время назад в одной петербургской академии прошла презентация нового научного журнала под названием «Русская философия». Когда началось время вопросов, один из слушателей выразил недоумение по поводу дизайна журнала: «Почему слово “русская” на обложке дано крупнее, а “философия” – мельче? Ведь главное – это философия, любовь к мудрости и истине, а не национальная принадлежность!»
Этот вопрос вызвал в моей памяти строчки монолога Чацкого «Французик из Бордо»:
Как европейское поставить в параллель
С национальным – странно что-то![1]
На первый взгляд, у Чацкого речь совсем о другом: об отношении народов, а не проблеме философской идентичности. Чтобы оправдать предложенное сопоставление, я вынужден обратиться к трюизму. История философии, как мы ее знаем, – это история европейской философии, а потому указание на то, что национальную принадлежность любви к мудрости необходимо воспринимать как нечто вторичное по отношению к самой мудрости, видится мне как минимум не бесспорным. Национальная традиция не должна неметь перед лицом универсальности.
Так или иначе, указанные строки из монолога Чацкого – великолепная пародия на строй мысли русских людей, которые жили 200 лет тому назад. Национальное, то есть свое, не может стоять в параллели с европейским, то есть с общечеловеческим (а именно так в то время русские воспринимали Европу), но только в подчинении последнему. Национальное рассматривается как нечто, что заведомо проигрывает в прямой конкуренции с европейским, то ли по причине того, что русские всегда находятся в позиции догоняющих, то ли потому, что европейское – это рамка для русского национального и оттого их нельзя ставить в параллель друг другу, как нельзя уподоблять меньшее и большее.
Наблюдая публичные дискуссии последних лет, я понимаю, что противоречие между национальным и европейским не разрешено и 200 лет спустя после написания «Горя от ума». Оно может облекаться в совершенно разные одежды: национальное становится евразийским или имперским, европейское – либеральным или республиканским, но результат всегда будет один: попытка поставить эти феномены в параллель друг другу, то есть сравнить и тем самым уподобить друг другу, всегда будет казаться чем-то странным.
Это отвлеченное, более политическое, нежели философское рассуждение имеет тем не менее самое прямое отношение к теме этой книги. Как примирить единство философии как истории поисков универсальной истины с вопросом национальности? Здесь мы встаем перед развилкой. Или мы вынужденно отказываемся от всякого большого нарратива в отношении философии, и тогда на руках у нас остается не универсальная история, а многообразие национальных историй, косвенно связанных друг с другом; или же мы занимаем отчаянно ретроградную позицию и настаиваем, что да, история философии творилась только в Европе.
Однако историю русской философии не удовлетворяет ни первый, ни второй вариант. Русские философы всегда мыслили себя в качестве продолжателей именно классической европейской традиции, но при этом настаивали на том, что юная русская мысль должна отвоевать свою самобытность. Вот уже 200 лет кряду муссирующаяся на наших просторах весть о скорой «смерти Европы» стала смыслообразующим мифом русской интеллектуальной традиции. Осмелюсь утверждать, что Иван Карамазов, который собирается ехать в Европу, чтобы навестить родные его сердцу могилы европейских интеллектуалов, – это архетип всякого русского философа, даже если сам конкретный русский философ никогда не захочет в том себе сознаться.
Русскую философию не просто не смущает параллель национального и европейского – она рождена этой параллелью. Своеобразие происхождения вынуждает русскую мысль раз за разом возвращаться к своим истокам в попытке зацементировать тот разлом, из которого она проистекает. Стоит ли говорить, что попытки эти обречены на провал, ибо снятие вопроса о параллелизме национального и европейского, то есть окончательное разрешение одного из основных вопросов русской философии, равнозначно уничтожению источника ее существования. Если угодно, Европа должна вечно находиться при смерти, но никогда не умирать окончательно для того, чтобы русская мысль оставалась сама собой.
