Михаил Бару: Не имеющий известности
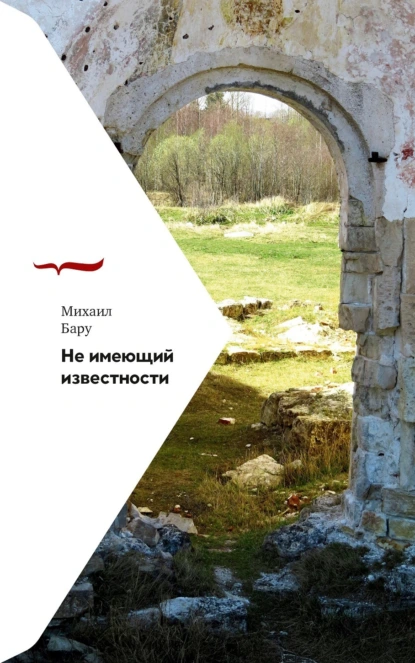
- Название: Не имеющий известности
- Автор: Михаил Бару
- Серия: Письма русского путешественника
- Жанр: География, История России, Культурология, Путеводители
- Теги: Города России, Записки путешественников, Историческая география, Исторические исследования, История городов, Отечественная история, Провинциальный город, Путешествия по России, Русская деревня
- Год: 2025
Содержание книги "Не имеющий известности"
На странице можно читать онлайн книгу Не имеющий известности Михаил Бару. Жанр книги: География, История России, Культурология, Путеводители. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
«Памятник русскому уездному городу никто не поставит, а зря». Михаил Бару лукавит, ведь его книги – самый настоящий памятник в прозе маленьким русским городам. Остроумные, тонкие и обстоятельные очерки, составившие новую книгу писателя, посвящены трем городам псковщины – Опочке, Острову и Порхову. Многое в их истории определилось пограничным положением: эти уездные центры особенно остро переживали столкновение интересов России и других европейских держав, через них проходили торговые и дипломатические маршруты, с ними связаны и некоторые эпизоды биографии Пушкина. Но, как всегда, Бару обращает внимание читателя не столько на большие исторические сюжеты, сколько на то, как эти глобальные процессы преломляются в частной жизни людей, которым выпало жить в этих местах в определенный период истории. Михаил Бару – поэт, прозаик, переводчик, инженер-химик, автор книг «Непечатные пряники», «Скатерть английской королевы» и «Челобитные Овдокима Бурунова», вышедших в издательстве «Новое литературное обозрение».
Онлайн читать бесплатно Не имеющий известности
Не имеющий известности - читать книгу онлайн бесплатно, автор Михаил Бару
В оформлении обложки использовано фото автора.
© М. Бару, 2025
© Ю. Васильков, дизайн серии, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Моей жене Тане
Вместо предисловия
Памятник русскому уездному городу никто не поставит, а зря. Кабы я был скульптор и архитектор, да в придачу председатель конкурсной комиссии при Министерстве памятников и барельефов, непременно организовал бы конкурс на его устройство. Не такой, конечно, монументальный, как тот, что воздвигли тысячелетию России в Великом Новгороде, – без шара-державы, креста, ангела и коленопреклоненной женщины в русском национальном костюме, но непременно многоярусный, с горельефами на каждом ярусе.
В первом, самом нижнем ярусе, среди дремучих лесов, грибов, ягод и дикого меда – тихий, робкий, почти первобытный финно-угр – собиратель грибов, ягод, дикого меда, рыболов и охотник. Тут же рядом по одному вятичу, кривичу, древлянину, полянину… короче говоря, все те, кто потом этого тихого и робкого финно-угра частью ассимилировал, а частью просто согнал с насиженного места дальше на север – в финские болота за линию Маннергейма.
Во втором ярусе опоясанные дубовыми рублеными стенами и башнями маленькой крепости на холме или на высоком берегу реки – воевода, стрелецкий голова, приказный с вырванным воеводой клоком волос, стрелец, городовой казак, драка между ними, пьяные пушкари, стрелецкая жена с ухватом, еще одна стрелецкая жена, ухватившая мужа за пищаль, посадские, попы, которые куда увереннее держат саблю, чем кадило, коровы и свиньи, разгуливающие по главной площади крепости. Куры и гуси, переходящие единственную улицу. Там же и два бронзовых листка. На первом – накладная, то есть опись городового имущества, с перечислением всех пушек, пищалей, фальконетов, чугунных и каменных ядер, свинцовых пуль, пулелеек, зелья, бердышей, протазанов, рогатин, запасов хлеба, проросшего лука, соли, мыла, сушеных грибов, гречки, бочек с давно протухшей квашеной капустой и пересоленными огурцами, нагольных тулупов, лягушек во рву вокруг крепости, лавок с красным товаром, питейных домов и царевых кабаков. На втором – строчка из царского указа, в котором русским по белому написано: «Жить с великим береженьем, денные и ночные сторожи держать крепкие». Вокруг крепости не луга с полевыми цветами, а крымские и казанские татары, ногаи, черемисы, литва, ливонские рыцари, польские жолнеры, летучие гусары, наемники римского кесаря, шведы, самозванцы, казаки, но уже не городовые, а запорожские, беглые крестьяне из армии Болотникова, разинцы… (Этих нужно как-то мелко, как на колонне Траяна, чтобы все уместились хотя бы по одному.)
В третьем ярусе первый городничий – тощий немец в звании секунд-майора, толстый бургомистр, необъятный городской голова с окладистой бородой, запятки проезжающей мимо кареты императрицы или императора с преогромными гайдуками, монументальные купцы с резным блюдом, на котором хлеб-соль, титулярные и надворные советники, уездный предводитель дворянства, уездные дамы и девицы, купеческие жены, драгуны или конные егеря из полка, стоящего в городе, принесенные в подолах купеческих и мещанских жен конные егерята, городской собор, купеческие особняки, первые ученики народных училищ с огромными, вытянутыми от постоянного тасканья ушами, рабочий мыловаренного или кирпичного завода в мыле или кирпичах, первый немец-аптекарь, непроворный инвалид со своим шлагбаумом, железная дорога, проходящая мимо, богадельня с десятком стариков и старух, большевик, наклеивающий листовку, первый гимназист, с интересом ее читающий, городовой с преогромными усами, хватающий гимназиста за ухо.
В четвертом ярусе еще один большевик, эсер, солдат, пришедший с фронта, дезертир, еще один дезертир, неизвестно как оказавшийся в этих сухопутных местах революционный матрос Балтийского флота с преогромной деревянной кобурой на боку, сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете, духовой оркестр, играющий в городском саду, развалины старой крепости, в которых собираются рабочие на маевку, гимназисты и гимназистки с красными бантами, испуганные мещане, куры и гуси, стремительно убегающие из-под ног. Убитый городовой. Бронзовый листок с поздравительной телеграммой, отбитой вождю мирового пролетариата в связи с его пятидесятилетием. Расстрел офицеров и гимназиста в углу городского сада. Еще один бронзовый листок с меню из общественной столовой, в котором щи из капусты, гороховая каша и морковный чай. Здание уездной ЧК, занимающее старинный двухэтажный купеческий особняк. Председатель уездной ЧК в потертой кожаной куртке, ботинках с обмотками и с наганом в руках. Секретарь уездного комитета партии в такой же куртке, с таким же наганом в руках, в таких же ботинках с обмотками и с таким же лицом. Разрушенная колокольня.
В пятом ярусе секретарь райкома партии в широком мятом галстуке с огромным узлом, пионерский отряд со знаменем и барабаном, идущий по пыльным улицам. Куры и гуси, убегающие из-под пионерских ног. Обелиск павшим борцам. Кирпичная труба мыловаренного или кирпичного завода. Рабочий мыловаренного или кирпичного завода с бронзовым листком почетной грамоты и орденом на груди. Лейтенант в форме сотрудника ОГПУ. Еще один сотрудник ОГПУ в штатском. Еще два бронзовых листка – один с политическим анекдотом, а другой – «с написанным вручную содержательным доносом». Дом культуры с колоннами. Сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете. Черная тарелка радио. Еще один бронзовый листок с десятирублевой облигацией государственного внутреннего займа укрепления обороны. Семья уезжающих спецпереселенцев – сидящие на чемоданах папа, мама, девочка и кот у нее на руках. Разрушенная колокольня.
В шестом ярусе новая электростанция, электрические фонари на улицах, духовой оркестр, играющий в городском саду, солдаты, уходящие на фронт. Бронзовый листок с похоронкой. Сгоревший дом. Еще один бронзовый листок с похоронкой. Торчащая печная труба. Пикирующий бомбардировщик. Еще два бронзовых листка с похоронками. Подбитый танк на площади. Еще один сгоревший дом. Разрушенная кирпичная труба то ли мыловаренного, то ли кирпичного завода. Расстрел партизан в углу городского сада. Еще три бронзовых листка с похоронками. Маленькое, могил на двадцать, кладбище с готическими фанерными крестами. Два взорванных дома и развалины Дома культуры. Разрушенная колокольня.
В седьмом ярусе развалины, землянки, дети, играющие в ржавом танке на площади, секретарь райкома в гимнастерке с пустым рукавом, заткнутым за офицерский ремень, огороды. Еще огороды. Бронзовый листок с похоронкой, еще один бронзовый листок с похоронкой, кирпичная труба то ли мясокомбината, то ли завода по производству консервированных овощей, переходящее красное знамя Совета министров. Кинотеатр с названием «Родина», Дом культуры с колоннами, духовой оркестр, играющий в городском саду, пары танцующих женщин. Памятник вождю мирового пролетариата и трибуна для выступлений у его подножия, первомайская демонстрация трудящихся, куры и гуси, идущие вслед за демонстрантами, остатки стен разобранного на кирпичи городского собора. Разрушенная колокольня.
В восьмом ярусе ларек, еще ларек, обменный пункт, множество бронзовых листков с объявлениями о мгновенных кредитах без отказа и документов, сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете, еще один такой же, но женского пола, кирпичная труба остановившегося то ли мясокомбината, то ли завода по производству консервированных овощей, духовой оркестр в городском саду. Отделение Сбербанка в старинном двухэтажном купеческом особняке. Автобус и люди, садящиеся в него, чтобы уехать в большие города на заработки. Развалины крепости, в которых играют дети. Бабушка и дедушка на скамейке. Еще три бабушки на другой скамейке. Трехъярусная колокольня с висящими на ней колоколами.
Колокола Федора Максимова
Коложе
Если от общего количества читающих книги людей отделить тех, кто читает их на русском языке, а от них отделить читающих стихи Пушкина, а от этих отделить тех, кто читал их не только в школе и не забыл навсегда, а от оставшихся тех, кто помнит наизусть стихотворение «Признание» и строчку «…и путешествие в Опочку», то как раз и останутся те, кто слышал о существовании этого маленького городка на юго-западе Псковской области. Слышал, но ничего не знает. Прибавим к этому количеству слышавших сотню-другую актеров, которые любят, принимая красивые позы на фоне пушкинских стихов, «млея и задыхаясь», произносить «Мой ангел, я любви не стою!» со сцены, и… все. Много не получится, даже если прибавить сюда девять тысяч жителей самой Опочки, их родственников, проживающих в других городах, командированных и проезжающих, которые, как известно, в городе надолго не останавливаются и проезжают мимо.
Обычно рассказы о старых русских городках краеведы начинают с последних оледенений, шерстистых носорогов, мамонтов и кремневых рубил, а продолжают финно-угорскими племенами, дремучими лесами, полными медведей, дикого меда и горностаев, реками, в которых не переводились осетры, обломками керамики, ржавыми рыболовными крючками, славянами, пришедшими на смену финно-уграм, Перунами, Даждьбогами, и только потом… Экономя место и время, не будем об этом говорить, а только скажем, что были и финно-угры, и славяне-кривичи, и капища языческих богов, и меха, и дикий мед, и осетровая икра, которую в те незапамятные времена ели огромными деревянными ложками без хлеба – его тогда только начинали выращивать с помощью подсечно-огневого земледелия[1].
Первый раз Опочка родилась мало того что не в том месте, на котором она сейчас находится, но еще и под другим именем. Называлась она Коложо или Коложе и находилась в 12 километрах от современной Опочки. Городом назвать Коложе можно было только с большой натяжкой – это было небольшое городище на холме, обнесенное земляными валами высотой от полутора до двух с половиной метров. Тем не менее вместе с холмом, на котором оно стояло, городище представляло собой довольно внушительное сооружение. Со стороны реки Кудки высота холма вместе с высотой насыпных валов составляла около 40 метров. Основали Коложе псковичи то ли в начале XIV века, то ли в конце его. Во всяком случае в первый раз он упомянут в девяностых годах XIV века в «Списке городов русских дальних и ближних». Построили Коложе с тем, чтобы он охранял дальние подступы к Пскову. В дискуссию о том, почему его так назвали, мы углубляться не будем, поскольку нам еще предстоит дискуссия о том, почему Опочку назвали Опочкой. Скажем только, что в пяти километрах от холма, на котором стояло городище, находится озеро Коложо, из которого вытекает одноименная речка, но… городище Коложе стоит на берегу реки Кудки. От места, где стояло Коложе, до озера тянется многокилометровое болото. По-видимому, в Средние века озеро Коложо подступало к самому холму, на котором стояло Коложе, а потом стало мало-помалу заболачиваться, и теперь…
