Елена Дорош: Кипарисовый крест
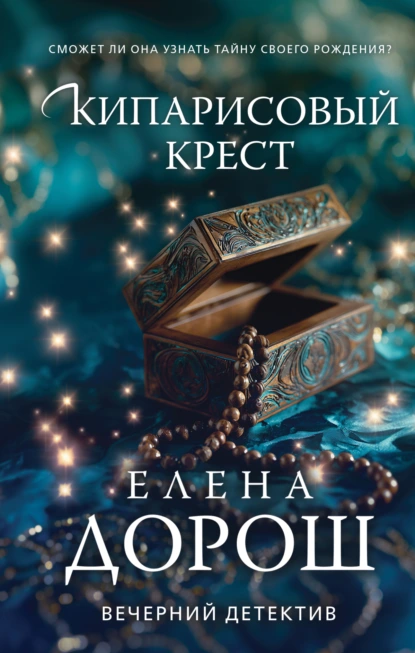
- Название: Кипарисовый крест
- Автор: Елена Дорош
- Серия: Вечерний детектив Елены Дорош
- Жанр: Современные детективы
- Теги: Женские детективы, Загадочные убийства, Смертельная опасность, Тайны прошлого, Частное расследование
- Год: 2025
Содержание книги "Кипарисовый крест"
На странице можно читать онлайн книгу Кипарисовый крест Елена Дорош. Жанр книги: Современные детективы. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Выросшая в воспитательном доме Зинаида Надеждина волей случая попадает в услужение к одной из фрейлин императрицы. Довольная своей участью девушка и не мечтает о большем. Ее пугает лишь то, что две ее подруги погибают при странных обстоятельствах, и, кажется, ей тоже грозит смертельная опасность. Но кому нужна жизнь бедной сироты? Чтобы выжить, Зинаиде придется разгадать тайну, которую долгие годы хранил кипарисовый крестик – подарок умершей матери…
Елена Дорош – философ и тонкий психолог. В увлекательной форме остросюжетного романа она рассказывает о вечных ценностях: любви, доброте, взаимопонимании и взаимопомощи. В ее книгах добро всегда побеждает зло, а справедливость торжествует.
Онлайн читать бесплатно Кипарисовый крест
Кипарисовый крест - читать книгу онлайн бесплатно, автор Елена Дорош
© Дорош Е., 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
В снегах
Младенец вдруг закричал. Негромко, но требовательно.
– Сунь титьку, – буркнул бородатый мужик, покрепче прижимая дверцу повозки.
– А то без тебя не знаю, – скривилась баба. – Холодно с голой титькой-то. Может, до станции потерпит?
– Да мне-то что. Пусть хоть дуба даст.
– Ага. А нам потом вместо денег – шиш с маслом.
Баба взяла закутанного в тулуп ребенка и, кое-как пристроившись, стала кормить.
– Ишь, лопает. Наш-то не такой прожорливый, – проговорила она, невольно улыбнувшись.
– Ты не больно раскармливай. Мало ли сколько добираться придется.
– Не боись. Еще насобирается.
– Вы, бабы, как коровы дойные, – хохотнул мужик. – Вас хоть вообще не корми, молоко все равно будет.
– Корова хороша, когда бык неплох, – парировала баба, ухмыльнувшись, и сунула соседу кулаком в бок.
– Погодь до дома. Там разберемся, – осклабился мужик.
Баба заправила грудь в ворот рубашки и запахнула тулуп. Ребенок, затихший было, снова заплакал.
– Перепеленать надо. Промокло все.
– Так пеленай! Мне, что ли?
– На холоду неудобно.
– Тогда пусть терпит.
– Орать будет. Да и простынет на морозе… Подай, что ли, пеленки.
– Я смотрю, ты прям жалостливая вся. Меня бы так жалела.
– Чего тебя, бугая, жалеть-то, – проворчала баба, распеленывая младенца. – Рожа, вишь, сытая какая. А дитя и так горя хлебнуло. Не успело на свет появиться, его уже с рук сбывают. Глянь-ка, Васька, чего я нашла.
– Чего там? – покосился мужик.
– Да вот. На веревку с крестом колечко надето.
Повернувшись всем телом, мужик потянул веревочку на шее младенца.
– Тише ты! Чего рвешь! – остановила его баба.
– Дай сюда.
– Крестик хоть оставь. Зачем тебе деревянный? Пусть у ребятенка хоть что-то от мамки останется.
– Ладно, – буркнул мужик, снимая кольцо и завязывая веревочку узлом.
Баба надела крестик на тоненькую шейку и торопливо закутала плачущего от холода младенца.
– Смотри-ка, а недешевый перстенек, – рассмотрев кольцо, обрадовался мужик. – Золота немало, да и работа тонкая. И буквы какие-то выбиты. «М» и еще раз «М».
– Мамаши инициалы. Или родителя.
– Графы, поди, или князья.
– Графы или князья, а все едино – ироды. Родное дитя…
– Цыц! – оборвал причитания мужик. – Делай, за что взялись, да помалкивай. Сами разберутся!
– Ага. Разобрались уже, – пробурчала баба, прижимая к себе младенца.
Санкт-Петербург утопал в снегах. Его в этом году навалило немало. А февраль выдался настолько снежным, по улицам не то что пешим, конным проехать стало совсем невозможно. Дворники мели тротуары день и ночь, но проку от этого было мало.
Приютских в такую погоду даже во двор не пускали. Гулять все равно неловко, снег валит, как шальной, а одежду промокшую потом сушить – замаешься. К тому же, не ровен час, кто-либо подхватит простуду, тогда и вовсе пиши пропало. Заболеют скопом, а это хуже напасти. Лекарств не хватало, ухаживать за больными охотников было и того меньше. Так что пока не заболел, держись, а заболел – терпи.
– На все Божья воля, – говорила обыкновенно заболевшему Аркадия Дмитриевна, руководившая их воспитательным домом.
Когда же кто-то из детей умирал – что не было редкостью, – перекрестившись, изрекала равнодушное:
– Бог дал, Бог взял.
Их приют был не церковным, а государственным. Церковные гораздо беднее, потому и содержались там сироты из самых нищих сословий. Их же относился к «Ведомству учреждений императрицы Марии», потому исправно снабжался из казны. Однако по неизвестным причинам девочкам жилось и голодно, и холодно.
При поступлении в воспитательный дом младенцы делились на три категории. Первые, здоровые и крепкие, сразу отправлялись по деревням. Вторые, хорошего сложения, но требовавшие временного докторского присмотра, пристраивались в приемные семьи. В самом приюте оставались дети третьей категории: совершенно слабые и нуждающиеся в постоянном уходе.
Все это девочки узнали от Василия Егорыча, старого и доброго смотрителя, дежурившего в их корпусе по ночам. Когда им совсем уж невмоготу становилось дрожать под тонкими одеялами, Егорыч звал малышек к себе и, усадив вокруг горячей печи, рассказывал разное, что на ум взбредет.
От него Зина узнала, откуда у нее такая фамилия – Надеждина.
– Так это ж воспитательница Надежда Семеновна тебя на крыльце увидела. Ну, в корзинке, значит. Раз она Надежда, то тебя по ней и записали. Аньку в дежурство Никодима принесли, она, стало быть, Никодимова и есть. А Машку я принимал. Потому она Васильева. Так в приютах завсегда делают. Настоящую-то фамилию кто ж скажет? Тебя чуть живую принесли. А уж голодную… Видно, плохо относились, раз не кормили. А может, везли издалека. В дороге грудное дитя разве накормишь. Но ты крепкая оказалась. Выкарабкалась!
Так, по крупицам, Зина складывала знания о себе. Чья она дочь и почему попала в приют, воспитаннице, конечно, никто не сообщил, но все же постепенно в голове девочки складывалась картинка ее бытия. Местами она зияла дырами, да и в целом была невеселой, но пустоты заполнялись воображением, а веселья добавляли мечты. Как все приютские, Зина была врушкой, правда, гораздо менее талантливой, чем Аня и Маша. Те насочиняли о себе такого, что только в сказках бывает. Аня всем рассказывала, что она – потерянная в дороге дочь египетского принца. По ее словам, верблюд, на котором она ехала, заблудился во время песчаной бури и отбился от каравана. Родители и тысяча слуг искали ее три дня и три ночи, но так и не нашли. С тех пор во дворце не отменяют объявленный траур, а принц и принцесса разослали по всем странам десять тысяч шпионов, чтобы те нашли дочь и доставили во дворец. В Россию они тоже когда-нибудь доберутся, и тогда все узнают о принцессе Анне. Почему принц путешествовал на верблюдах и как ребенок попал из пустыни прямиком в Петербург, было не совсем понятно, но Аня не смущалась подобными мелочами. История Марии была еще красочнее. Ее украли пираты, когда она с родителями – английским королем и королевой – путешествовала по морю. Похищенную королевскую дочь пираты привезли в Россию и отдали в приют, но уже совсем скоро родители отыщут наследницу престола. Тогда она непременно заберет с собой в Англию всех девочек и выдаст замуж за принцев со всего света.
На подобный исход Зина не особо надеялась, потому что на всех девочек принцев даже со всего света не хватит. А уж ее – доходягу – никакой принц замуж взять не захочет. Да и зачем ей чужое счастье, если она ждет своего.
В силу застенчивого и скрытного характера ее представление о сбывшейся мечте было не в пример скучнее. Она придумала, будто ее мать была благородного происхождения, а отец – простой моряк, поэтому суровые родители не дали им пожениться. Моряк надолго ушел в плавание, не зная, что у него должен родиться ребенок. Мать Зины до сих пор ждет его возвращения. Когда они наконец воссоединятся и поженятся, непременно возьмут дочь в свой дом. Родители матери, отдавшие младенца в приют, уже не будут против свадьбы, потому что моряк вернется героем.
Враки год от года обрастали новыми подробностями, но, если ее подруги охотно делились ими со всеми, Зизи, взрослея, все меньше стремилась откровенничать. Не то чтобы разговоры делали мечту менее реальной, напротив, у каждой из девочек она с годами только крепла. Но Зине казалось, будто скрытые, непроизнесенные мысли защищены от посягательств судьбы гораздо лучше, чем выставленные напоказ.
А может, девочка, взрослея, просто более ясно осознавала неопределенность своего будущего и с каждым годом страшилась его сильней и сильней.
Что, если родители не успеют забрать ее до того, как она покинет воспитательный дом? Как она сможет распорядиться свободой? Где пристроится и чем будет заниматься?
Судьба приютских мальчиков, проживавших в Гатчине, была куда более очевидной. Их, исходя из умственных способностей, отправляли на учебу в аптеку, пристраивали на службу по письменной или счетной части, а порой и в госпиталь для приобретения навыков в медицине. Девочкам подобная удача не светила. Учили их элементарному: читать, писать и считать. Зине было известно, что в расписании значились и другие предметы – латынь, география, французский или немецкий языки, – но с недавних пор средств на наем учителей недоставало, и занятия свелись к самым необходимым.
Уже в состоянии разуметь, о чем идет речь, однажды Зина услышала разговор двух воспитательниц. Они сетовали, что с болезнью императрицы Марии Александровны – патронессы воспитательного дома – дела стали идти все хуже, хотя средств вроде как выделялось по-прежнему довольно.
– Под шумок все расходится по карманам начальства, – тихо сказала одна другой, но Зина смогла разобрать.
Рукоделью воспитанниц учили несравнимо лучше. Вышивка, плетение кружев, шитье были любимыми занятиями, хотя полученные навыки пригождались лишь для починки собственной одежды и штопанья чулок. Впрочем, девочки догадывались: как раз эти умения понадобятся им в жизни больше других.
Находиться в воспитательном доме можно было до двадцати одного года, но девочки покидали приют гораздо раньше. Многие страшились раннего ухода в большой мир. Тяжелая работа не пугала. Боялись другого: навсегда потерять шанс быть найденными потерявшимися родителями. Иногда воспитанниц брали в няньки, иногда в работницы на фабрику или швейную мастерскую, иных даже готовили в гувернантки. Но в любом случае это означало, что их следы начинало заметать временем, оставляя все меньше шансов обрести наконец родителей.
Впрочем, горькие мысли могли терзать Зинину головушку целый год, но только не в феврале.
Зина знала, что родилась в этом самом нелюбимом другими месяце – холодном, метельном и особенно противном из-за пронизывающего ветра, продувавшего весь город и каждого его жителя насквозь. На какое число приходилось ее появление на Божий свет, ей, конечно, никто сказать не мог, поэтому она считала праздничным весь месяц целиком. А что такого? Говорить об этом вслух необязательно, а про себя каждое утро считать днем рождения было и приятно, и полезно. В праздник болеть не хотелось – что за день рождения тогда? – поэтому в феврале она ни разу не простужалась. Настроение было приподнятым, мысли светлыми, потому и болячки не липли, наверное. А может, потому, что весь месяц она истово молилась о том, чтобы Господь даровал ей родителей, утраченных в младенчестве.
Молилась она тоже в одиночестве, сидя под столом в приютской библиотеке, который лет с пяти стал ее собственным маленьким домом.
Дом под столом
Ее добровольное затворничество началось с появления в приюте няньки Аграфены Фоминичны. Никто не ожидал от деревенской бабы такой злобности, да поначалу ничто и не предвещало беды. Нянька была большой, мягкой и улыбчивой, а такие люди всегда кажутся добродушными. Однако иллюзии на ее счет рассеялись буквально через несколько дней, когда за разбитую нечаянно чашку Аграфена выпорола Лилю, да так жестоко, что девочка слегла на три недели. Начальнице при этом той же Аграфеной было заявлено, что Лиля бесноватая и ее необходимо сдать в желтый дом или монастырь.
Лилю, разумеется, никуда не отдали, но и Аграфене за рукоприкладство ничего не было. Начальница даже похвалила за усердие.
Почувствовав безнаказанность, нянька с каждым днем расходилась все сильней. Редкая воспитанница оставалась небитой в течение недели. Однажды доведенные до отчаяния девочки вздумали было пожаловаться воспитательнице Надежде Семеновне, но вышло только хуже. Узнав об этом, Аграфена стала еще лютей, но научилась хитрить: старалась бить так, чтобы побои не были видны, но стали еще болезненнее.
