Паскаль Наварри: Модно, сексуально, бессознательно. Психоанализ стиля и вечной проблемы «мне опять нечего надеть»
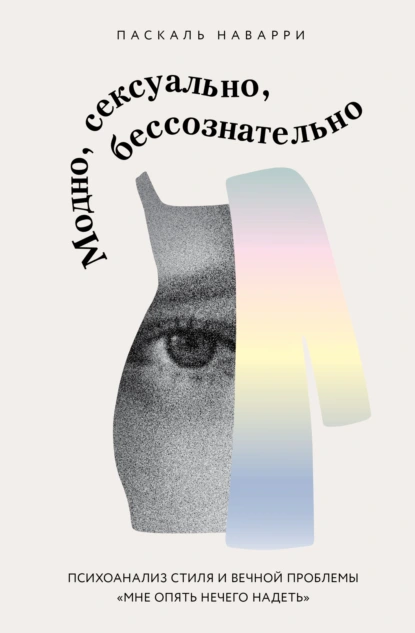
- Название: Модно, сексуально, бессознательно. Психоанализ стиля и вечной проблемы «мне опять нечего надеть»
- Автор: Паскаль Наварри
- Серия: Психология моды. Ваш ключ к пониманию себя и своего стиля
- Жанр: Мода и стиль, Психология
- Теги: Психологические исследования, Психологические комплексы, Психологические механизмы
- Год: 2025
Содержание книги "Модно, сексуально, бессознательно. Психоанализ стиля и вечной проблемы «мне опять нечего надеть»"
На странице можно читать онлайн книгу Модно, сексуально, бессознательно. Психоанализ стиля и вечной проблемы «мне опять нечего надеть» Паскаль Наварри. Жанр книги: Мода и стиль, Психология. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Задумывались ли вы, как мы находим свой стиль и что влияет на наши предпочтения в одежде? Каждый наш выбор – это не просто следование трендам, а глубокий процесс самовыражения. На языке моды мы интерпретируем свои эмоциональные переживания и сложные отношения с прошлым. В поисках правды практикующий психоаналитик Паскаль Наварри не боится поднимать спорные темы о жертвах моды, расстройстве пищевого поведения и трансформации в мужском стиле. Она исследует психологию моды и на примерах фильмов «Дьявол носит Prada» и «Американский психопат» доказывает, что механизмы моды неотделимы от нас и оказывают огромное влияние на то, кто мы есть.
Онлайн читать бесплатно Модно, сексуально, бессознательно. Психоанализ стиля и вечной проблемы «мне опять нечего надеть»
Модно, сексуально, бессознательно. Психоанализ стиля и вечной проблемы «мне опять нечего надеть» - читать книгу онлайн бесплатно, автор Паскаль Наварри
Pascale Navarri TRENDY, SEXY ET INCONSCIENT: REGARDS D’UNE PSYCHANALYSTE SUR LA MODE
© Presses Universitaires de France/Humensis, 2008 Published by arrangement with Lester Literary Agency & Associates
© Наумова И., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Благодарность
Я благодарю Жана-Филиппа Азюлэ, Оливье Балле, Лею Коэн, Паскаля Жоли, Фредерику Лелан, Люс Мельшьор за любезное разрешение включить в это эссе отдельные сведения, касающиеся их лично, а также выражаю благодарность Алену Левамису за работу со статьями на английском языке и Патрисии Валле, руководителю центра документации Музея моды в Марселе.
Предисловие
Натянув «старые добрые джинсы» в выходной день, собираясь заняться спортом, я забегаю за ремнем в модный и хорошо знакомый мне бутик, где иногда покупаю себе одежду. Любезно обменявшись со мной приветствиями, молодая женщина, директор магазина, смотрит на меня с таким видом, который можно было бы расценить как «любезный, извиняющийся и строгий», и спрашивает, известно ли мне, что вот уже несколько месяцев как никто не носит джинсы с завышенной талией. Я отчасти растеряна, словно этот вопрос возвращает меня с небес на землю.
Действительно, я смутно припоминаю, что сейчас в моде заниженная талия, но я не сообразила, что утверждение «никто не носит джинсы с завышенной талией» может иметь настолько безусловный характер. Вместо того чтобы пуститься в объяснения по поводу предполагаемой уместности моих джинсов по отношению к виду спорта, которым я собиралась заняться в тот день (верховая езда = удобная и не обязательно «стильная» одежда), я решаю, что еще одни брюки помоднее не станут лишними, и выхожу из бутика с джинсами с заниженной талией той марки, «которую следует иметь», и с подходящим ремнем…
Меня не покидает ощущение, что я отчасти предала свои старые джинсы… и я испытываю некоторое замешательство, подпитываемое разными мыслями другого рода, так как мне не слишком по вкусу подобные изменения в силуэте, а затраты, показавшиеся в тот момент вполне естественными, оказались все-таки непредвиденными.
Когда я приезжаю в спортивный клуб, мое изначальное место назначения, ко мне подходят совсем юная девушка и ее друг, с которыми я обычно беседую лишь на спортивные темы. Они тут же замечают, что на мне джинсы «X», не ошибаясь как в бренде, так, впрочем, и в цене, сопровождая все это комплиментами и восхищенными комментариями и высказывая свое мнение о том, как выглядит одежда, а также о цене, словно она неотделима от джинсов, что меня, скорее, удивляет. Затем девушка мило замечает, что верхняя часть моего наряда не подходит к джинсам, но подсказывает, как это можно исправить. Однозначно, достаточно одного взгляда, и все или почти все сказано.
И вновь я спокойна и безмятежна насчет того, насколько «модно» то, что на мне надето. В этой связи мне приходит на ум процитированное психоаналитиком Флюгелем высказывание философа и социолога Спенсера: «Ощущение, что ты идеально одет, приносит порой покой, который не может дать сама религия»[1].
Итак, несколько недель спустя я вхожу в модный бутик, чтобы купить подходящую блузку. Встречающая меня и помогающая мне в выборе очень молоденькая продавщица вдруг весьма любезно заявляет (Ах! В конечном счете подобная любезность кажется мне слегка подозрительной!), что хочет просто кое-чем поделиться со мной: она увидела на мне джинсы «Х», но… талия совсем никуда не годится, потому что в данный момент ее нужно очень сильно утягивать, и тогда она живо советует мне найти хорошую портниху…
Я выхожу из бутика довольная тем, что получила «верную» информацию, но вновь в замешательстве. И замешательство мое еще сильнее оттого, что через несколько недель я, из уст другой продавщицы, узнаю, что такие джинсы нужно носить с подвернутым краем…
Как я смогла отказаться от собственного, подходящего мне образа, поменяв его на другой, менее удовлетворительный, на мой взгляд, и так внезапно отречься от того, что почитала своим стилем (как это определяет Гари Харви, модельер фирмы Levi’s: «Действующий на подсознание язык, влияющий на то, как вас воспринимают»[2])? Почему же этот новый взгляд со стороны, подкрепленный осведомленностью о процессах, протекающих в обществе, которые я не сумела вовремя оценить, превалирует над моим привычным взглядом на себя и другими соображениями?
Как и многим из нас, мне достаточно часто в течение нескольких часов приходится мерить шагами улицы своего города в поисках сезонной одежды либо листать модные журналы, получая при этом большое удовольствие или испытывая легкое чувство вины за то, что в них погружаешься значительно легче, чем в некоторые научные журналы, представляющие для меня безусловный интерес и обладающие явным приоритетом.
Мне также случается, открыв свой гардероб, убеждаться, стоя перед заполненными шкафами, что мне «нечего надеть», испытывая при этом довольно неприятное чувство, вместо того чтобы расхохотаться в ответ на столь нелепые с точки зрения объективности речи.
Возможно, идентичность той, что произносит эти слова, под угрозой и ей чего-то недостает, но чего? Что становится решающим в столь иррациональной ситуации, так это представление о себе, внезапно расходящееся с тем, к чему человек стремится. Ты упрекаешь свой гардероб в разношерстности, в том, что он «вышел из моды», что он больше не современен, как с неустанным постоянством твердят нам журнальные статьи.
Наши внезапные сомнения не подчиняются сезонам, создается впечатление, что речь идет совсем о другом, а именно о желании ощутить на себе новый взгляд, как свой собственный, так и посторонний, о той особой связи между внутренним миром того, кто модно одет, и внешним и внутренним миром тех, кто таким образом опознает его. Это визуальная инвестиция в настоящее, где должно разыграться какое-то новое действо.
Отнюдь не испытывая раздражения из-за того, что меня могут причислить к числу тех, кто не ощущает этого инстинктивно и кому приходится следовать за внешними проводниками, я посчитала необходимым присмотреться к данной теме поближе.
Зачем писать психоаналитическое эссе о моде?
Очень немногие психоаналитики осмелились исследовать данную область, даже если отдельные выдающиеся личности, такие как Джон Карл Флюгель[3] (1930) и Эдмунд Берглер[4] (1953), положили этому начало. Может быть, такая нерешительность объясняется тем, что для психоаналитиков тема моды обладает привкусом легкомыслия, совершенно неуместного для тех, кто ежедневно имеет дело со сложностями психической жизни и с тем, что находится за гранью очевидного с первого взгляда?
И правда, как перейти от богини, отмеченной поверхностностью, «богини видимости», к психологии глубин бессознательного? Не происходит ли это из-за самой ее сущности, эфемерности? Между тем основатель психоанализа подчеркивал, что «с точки зрения времени ценность эфемерного заключается в его редкости»[5]. Объясняется ли подобная нерешительность природой нашего видения?
В связи с этим вспомним, что, развивая свое учение, Фрейд, основатель психоаналитического метода, постепенно создавал рамки или условия, благодаря которым психоаналитик скрывался от пациента. Этот порядок было первым проявлением вопроса о необходимости фрустрации для психической работы, словно на заре психоанализа понятие «видеть – быть видимым» представляло собой препятствие, которое, впрочем, не было полностью обосновано теорией Фрейда.
Это также означало полное признание важности взгляда, тем более что легко можно представить себе, что высказывания Фрейда о «самых красивых» женщинах[6] относились, в частности, к его молодым и прекрасным пациенткам, позволившим ему разработать начала теории психоанализа.
В настоящее время вопрос психоаналитической работы лицом к лицу, связанный с расширением показаний к психоанализу, когда оба участника «видят» друг друга, притягивает еще большее внимание к значению взгляда в арсенале психоаналитика.
Объясняется ли редкость исследований о моде также и тем, что в психоаналитическом поле можно рассматривать моду как один из второстепенных аспектов среди множества проявлений телесного нарциссизма? Даже если эстетика и творчество неразрывно связаны с модой, то, казалось бы, хорошо, что порой, стоя рядом с ними, она не выглядит «бедной родственницей» на том, что можно было бы назвать психоаналитической шкалой ценности творчества.
Сегодня историки, социологи, журналисты либо экономисты, пишущие о моде, без колебаний прибегают к психоанализу для того, чтобы обогатить свое понимание этого феномена. Но до последнего времени к психоанализу обращались главным образом тогда, когда мода становилась откровенной демонстрацией сексуальности, чтобы он предоставил базу для понимания, в частности в связи с проблемами эксгибиционизма и фетишизма.
Сейчас тональность меняется, и писатель Патрик Морьеc может сказать: «Мода работает не как сущность, а как психологическая функция»[7]. Теперь речь идет о том, чтобы задаться вопросом об идентичности и овладении видимостью, об ограничении повторяемости, даже пагубной зависимости.
Эти вопросы чаще всего тревожат, настолько «система моды»[8] кажется встроенной в ту беспощадную и безумную логику, где коммерческие императивы хладнокровно манипулируют нашими хрупкими и подчиненными индивидуальностями. Может быть, мы недооценили тот факт, что язык моды – это язык императива, которому подчиняются и которого избегают. Тогда речь идет скорее о тирании, чем об удовольствии, в сущности, довольно непростом, где нужно следовать велениям[9] моды, быть in (внутри) или out (вовне), быть настороже, выдерживать внешнее влияние или отбиваться от него…
«You just feel it!» Мода – ты ее просто чувствуешь[10]
Если императив, действующий в области моды, проявляется и позволяет выстраивать гипотезы относительно своеобразной работы над идеалом собственного «я», то у моды есть и другая сторона, и эта самая сторона культивирует связь c тайнами чувственности и восхваляет своего рода инстинкт… Весьма сложный инстинкт, говорящий тому, кто, как он думает, обладает им, не «Мода – я ее вижу», а «Мода – я ее ощущаю».
Итак, это тот инстинкт, который, возможно, больше занят переменами, разрывом, нежели содержанием. На основе этого инстинкта создается элита, характеризующаяся не измеряемым дарованием, как, к примеру, абсолютным слухом в музыкальной области, а субъективной способностью «чувствовать» моду. Следовательно, неотделимое от данного феномена непостоянство делает его исследование особенно сложным!
Желание соединить императив, чувственность и ритм, которые движут языком моды, увлекает нас в область неосознанного стремления, энергии, обладающей неудержимой тягой, источник которой находится внутри и представляет собой требование работы, навязанной психическому аппарату.
Какие влечения или, скорее, какие комплексы влечений задействованы в моде? Как, с первого взгляда поняв, как работает скопическое влечение[11] [или влечение взгляда], характерное для эксгибиционизма-вуайеризма, мы прокладываем путь, который, начиная с имитации и идентификации, мало-помалу приводит нас к тому, что мы выстраиваем то, чем являемся, и собственный внешний вид? Внешний вид, принимающий порой весьма странную конфигурацию, если судить о нем по крайним случаям с анорексичными личностями в моде, по «метросексуалам», адептам приобретения фирменной одежды любой ценой либо fashion victims [жертвам моды]!
