Артур Шопенгауэр: О воле в природе
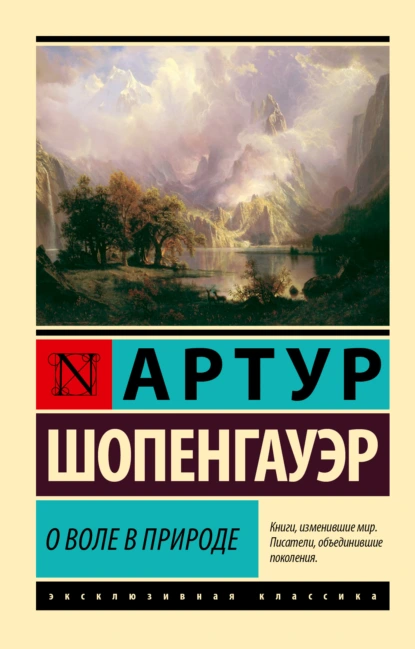
- Название: О воле в природе
- Автор: Артур Шопенгауэр
- Серия: Эксклюзивная классика (АСТ)
- Жанр: Книги по философии, Литература 19 века
- Теги: Бессознательное, Великие философы, Творческое наследие, Теория познания, Трактаты, Философская картина мира, Философские концепции
- Год: 1836
Содержание книги "О воле в природе"
На странице можно читать онлайн книгу О воле в природе Артур Шопенгауэр. Жанр книги: Книги по философии, Литература 19 века. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Артур Шопенгауэр (1788—1860) – выдающийся немецкий философ-иррационалист.
Работа философа «О воле в природе», написанная им в зрелые годы, является дополнением его основного труда «Мир как воля и представление».
В ней Шопенгауэр подтверждает свою идею о том, что в основе существования природы лежит бессознательная мировая воля, которая проявляет себя во всем и всему остается чуждой.
Онлайн читать бесплатно О воле в природе
О воле в природе - читать книгу онлайн бесплатно, автор Артур Шопенгауэр
Τοιαῦτ’ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου,
Οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν·
‘Αλλ’ εκδιδάσκει πάνϑ’ ὁ γηράσκων χρόνος[1].
Αεσχυλυς
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие ко второму изданию
Я дожил до радостной возможности по истечении 19 лет приложить исправляющую руку и к этому небольшому произведению; и радость моя была тем более велика, что последнее особенно важно для моей философии, ибо, отправляясь от чисто эмпирических данных, именно от замечаний беспристрастных естествоиспытателей, руководящихся нитью своих специальных наук, я непосредственно дохожу в нем до самого ядра моей метафизики, указываю точки соприкосновения ее с естественными науками и предлагаю таким образом как бы арифметическую поверку моего основного положения, которое через это, во‐первых, получает более точное и специальное обоснование, а во‐вторых, становится в высшей степени доступно, понятно и отчетливо.
Поправки, введенные мною в это новое издание, состоят почти исключительно из добавлений: из первого издания я не только не выпустил чего-либо достойного внимания, но еще и сделал в нем многочисленные и отчасти важные вставки.
Да и вообще это – хороший признак, что книжный рынок потребовал нового издания настоящей книги; ведь это доказывает существование интереса к серьезной философии вообще и свидетельствует о том, что потребность в действительном прогрессе ее становится в настоящее время более настоятельною, чем когда бы то ни было. Обусловливается же указанная потребность двумя обстоятельствами. Это, во‐первых, беспримерно ретивое занятие всеми отраслями естественных наук, которое, будучи руководимо почти исключительно людьми, ничему, кроме своего дела, не учившимися, угрожает привести к грубому и плоскому материализму, где прежде всего возмутительно не нравственное скотство конечных выводов, а невероятная бессмыслица основных принципов, так как эти господа руководители отрицают даже самую жизненную силу и принижают органическую природу на степень случайной игры химических сил1. Подобным рыцарям тигеля и реторты не мешало бы внушить, что одна голая химия дает право на звание разве только аптекаря, а никак не философа; равным образом следовало бы внушить и другим, сродным с ними по духу естествоиспытателям, что можно быть совершеннейшим зоологом и уметь нацепить на одну бечевку все шестьдесят видов обезьян и все-таки, если ты не сведущ во всем остальном, кроме разве одного катехизиса, оставаться в общем невеждою и человеком толпы. В наше время это и встречается сплошь да рядом. В просветители мира навязываются люди, которые изучали свою химию, или физику, или минералогию, или зоологию, или физиологию, и больше ничего на свете; к науке прилагают они свое единственное знание из другой области – именно то, что еще от школьных лет держалось у них в памяти из катехизиса; и вот когда оба эти обрывка у них не совсем сходятся, тогда они начинают глумиться над религией и становятся пошлыми и плоскими материалистами2. О существовании какого-то Платона и Аристотеля, какого-то Локка и особенно Канта они, пожалуй, и слышали некогда в школе, но не сочли этих людей достойными более близкого с ними знакомства, так как последние не возились ни с тигелем, ни с ретортою и не набивали обезьяньих чучел; и преспокойно вышвырнув за окно умственную работу двух тысячелетий, эти господа от собственных духовных щедрот горе-философствуют перед публикою – на основе катехизиса, с одной стороны, и тигеля и реторты или таблицы обезьяньих видов – с другой. Им следует безо всяких обиняков дать понять, что они – невежды, которым еще многому не мешает поучиться, покуда они приобретут себе право голоса. Вообще, всякий, кто с детски-наивным реализмом зря догматизирует о душе, о Боге, о начале Вселенной, об атомах и т. п., словно «Критика чистого разума» написана на Луне и ни один экземпляр ее не попал на Землю, – всякий такой человек принадлежит к толпе, и место ему в лакейской – пусть же в этой аудитории он и выкладывает свою мудрость3.
Другим обстоятельством, обусловливающим действительный прогресс философии, является неверие. Вопреки лицемерному замалчиванию истины и искусственным мерам для оживления западной церкви оно все возрастает, потому что необходимо и неизменно идет рука об руку с неуклонным распространением опытных и исторических знаний всякого рода. Оно угрожает вместе с формою разрушить и дух, и смысл христианства (гораздо более глубокий, нежели оно само) и предоставить человечество моральному материализму, который еще опаснее вышеупомянутого материализма химического. И ничто в такой степени не играет на руку этому неверию, как обязательное тартюфство, которое в наши дни повсюду выступает с такой бессмысленной наглостью; его грубые апостолы, еще с подачкою на чай в руках, проповедуют столь елейно и в то же время столь назойливо, что их голоса проникают даже в ученые, издаваемые академиями и университетами, критические журналы и в физиологические и философские книги, где своей полной неуместностью они вредят делу самих проповедников, возбуждая у читателей одно только негодование4. Вот при таких обстоятельствах и отрадно видеть, что публика выказывает участие к философии.
Тем не менее я должен сообщить профессорам философии печальную весть. Их Каспар Гаузер[2] (по Доргуту), которого они в течение почти сорока лет так тщательно загораживали от света и воздуха и так крепко замуровывали, что ни один звук не мог выдать миру его существования, – их Каспар Гаузер убежал. Убежал и бегает по свету; некоторые подумывают даже, не принц ли он. Или говоря прозою: то, чего они боялись больше всего на свете и что поэтому на протяжении целого века человеческой жизни умели соединенными силами и редкой настойчивостью счастливо предотвращать, прибегая к такому глубокому замалчиванию, к такой стачке пренебрежения и утаивания, каких еще никогда и не было, это несчастье все-таки произошло: меня начали читать – и теперь уже читать не перестанут. Legor et legar: ничего не поделаешь. Да, скверно и в высшей степени неприятно; в этом есть что-то роковое, прямо беда. Это ли награда за столь верный союз излюбленного молчания? За столь прочное единомыслие и дружное поведение? Бедные надворные советники! Где же обещание Горация:
Est et fideli tuta silentio
Merces?[3]
В “fidele silentium”, верном молчании, у них поистине недостатка не было; напротив, в нем-то и заключается их сила, и как только почуют они чьи-либо заслуги, они тотчас же хватаются за этот действительно тонкий прием: ведь о чем никто не знает, того все равно что и не существует. Что же касается “merces” (награды), то будет ли она для них совершенно “tuta” (обеспечена), это теперь как будто бы сомнительно – разве если толковать слово “merces” в дурном смысле, в смысле кары, – что́, конечно, находит себе оправдание и со стороны хороших классических авторитетов. Господа профессора совершенно правильно усмотрели, что единственное средство для борьбы с моими сочинениями – это сделать их тайной для публики, путем глубокого замалчивания и под громкий приветственный шум в честь рождения каждого из уродливых чад профессорской философии: так некогда корибанты громким шумом и кликом заглушили голос новорожденного Зевса. Но средство это исчерпано, и тайна разглашена: публика открыла меня. Злоба профессоров философии по этому поводу велика, но бессильна: после того как единственно-целесообразное и так долго с успехом применявшееся средство они исчерпали, никакое тявканье не в силах уже остановить моего влияния, и напрасно теперь они бросаются на меня то с одной, то с другой стороны. Правда, они добились того, что собственно-современное моей философии поколение сошло в могилу, ничего о ней не ведая. Но это было только отсрочкою: время, как и всегда, сдержало слово.
Оснований же, почему господам представителям «философского ремесла» (они сами в своей невероятной наивности так называют его5), почему им столь ненавистна моя философия, таких оснований два. Первое – то, что мои произведения портят вкус у публики, вкус к пустому сплетению фраз, к нагромождению ничего не говорящих слов, к пустой, плоской и медлительно терзающей болтовне, к церковной догматике, замаскированно одетой в покровы скучнейшей метафизики, к систематизированному, площадно-плоскому филистерству, которое должно изображать собою этику и в виде приложений дает даже руководства к карточной игре и танцам, – словом, вкус ко всей этой методе бабьей философии, которая уже многих навсегда отпугнула от всякой философии вообще.
