Лафкадио Хирн: Мимолетные видения незнакомой Японии
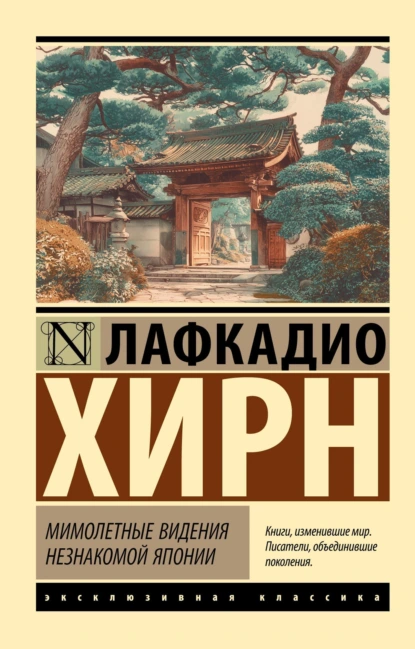
- Название: Мимолетные видения незнакомой Японии
- Автор: Лафкадио Хирн
- Серия: Эксклюзивная классика (АСТ)
- Жанр: Зарубежная литература о культуре и искусстве, Мифы / легенды / эпос
- Теги: Восточные традиции, Путевые очерки, Страна восходящего солнца, Японская культура, Японская мифология
- Год: 2025
Содержание книги "Мимолетные видения незнакомой Японии"
На странице можно читать онлайн книгу Мимолетные видения незнакомой Японии Лафкадио Хирн. Жанр книги: Зарубежная литература о культуре и искусстве, Мифы / легенды / эпос. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Очерки и эссе первого западного летописца Японии, передающие первые, самые сильные впечатления от встречи с традициями, обычаями и мифами Страны восходящего солнца.
Лафкадио Хирн приехал в Японию как корреспондент журнала, однако Страна восходящего солнца настолько очаровала его, что Хирн остался в ней до конца своих дней – нашел постоянную работу, женился и даже сменил имя на местный манер, став Якумо Коидзуми.
В сборник «Мимолетные видения незнакомой Японии» вошли очерки и эссе, написанные в первые несколько лет после переезда и посвященные японским традициям, обычаям, верованиям и мифам. Хирн посвятил этим темам множество книг, но именно «Мимолетные видения» наиболее ярко и точно передают первые эмоции человека, оказавшегося в Стране восходящего солнца, – самые сильные, но «невесомые и недолговечные, как аромат духов». «Мимолетные видения незнакомой Японии» принесли Хирну славу авторитетного востоковеда и долгие годы оставались одним из основных источников информации о далекой восточной стране.
Впервые на русском – первая часть сборника «Мимолетные видения незнакомой Японии»!
Онлайн читать бесплатно Мимолетные видения незнакомой Японии
Мимолетные видения незнакомой Японии - читать книгу онлайн бесплатно, автор Лафкадио Хирн
Lafcadio Hearn
Glimpses of Unfamiliar Japan, Vol. 1
* * *
Школа перевода В. Баканова, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *
В знак моей признательности и благодарности посвящается друзьям, чья доброта сделала возможным мое пребывание на Востоке: судовому казначею Митчеллу Макдональду, ВМС США и Бэзилу Холлу Чемберлену, эсквайру, почетному профессору филологии и японистики Имперского университета Токио.
Предисловие
В 1871 году во вступлении к своим очаровательным «Легендам древней Японии» мистер Митфорд писал: «Книги о Японии, созданные в последние годы, опирались либо на официальные документы, либо на поверхностные впечатления случайных путешественников. Мир до сих пор мало знает о внутренней жизни японцев. Их религия, суеверия, образ мыслей и тайные пружины поступков по-прежнему остаются загадкой».
Невидимая жизнь, о которой говорит мистер Митфорд, это та самая незнакомая Япония, которую мне удалось мельком увидеть. Читатель, возможно, будет разочарован слишком малым количеством впечатлений. Однако четырех лет, прожитых среди какого-либо народа, даже если ты пытаешься перенять его привычки и обычаи, иностранцу едва ли достаточно, чтобы почувствовать себя в чужом мире как дома. Никто лучше самого автора не знает, как мало воспроизведено в этих томах и как много еще предстоит сделать.
Образованные классы Новой Японии практически не разделяют популярные религиозные верования, в особенности почерпнутые из буддизма, и причудливые суеверия, упомянутые в этих заметках. За исключением характерного для него безразличия к абстрактным идеям в целом и метафизическим соображениям в частности, озападненный японец наших дней находится практически в том же интеллектуальном поле, что и культурный житель Парижа или Бостона. Он с неоправданным презрением относится к любым представлениям о сверхъестественном, великие религиозные вопросы современности его совершенно не трогают. Университетская выучка в области современной философии редко побуждает современного японца к непредвзятому изучению общественных отношений или их психологии. В его глазах суеверия – глупые предрассудки и ничего больше. Их связь с чувственной природой народа его не интересует[1]. Так происходит не потому, что он хорошо понимает свой народ, но потому, что класс, к которому он принадлежит, по-прежнему, пусть по естественным причинам, безоговорочно стыдится прежних верований. Большинство из нас, называющие себя агностиками, помнят, с какими чувствами мы, освободившись от куда более иррациональной веры, чем буддизм, оглядывались на мрачное богословие наших отцов. Интеллектуалы Японии стали агностиками лишь в последние несколько десятилетий. Быстрота, с которой произошла эта революция в умах, достаточно объясняет главные, хотя и не все причины сегодняшнего отношения высшего класса к буддизму. На сей момент оно граничит с нетерпимостью, и коль таково отношение к вере, отделенной от суеверия, то отношение к суеверию, отделенному от веры, должно быть еще более суровым.
Редкостное обаяние японского быта, так сильно отличающегося от быта других частей мира, не встретишь в европеизированных кругах. Его можно наблюдать в широких народных массах, которые в Японии, как и во всех других странах, являются носителями национальных достоинств и все еще крепко держатся за чу́дные старинные обычаи, живописные наряды, скульптуры Будды, домашние алтари, прекрасное и трогательное поклонение предкам. От такой жизни иностранный наблюдатель, если только ему посчастливится в нее окунуться, никогда не устанет, она подчас заставляет его усомниться, способствует ли хваленый западный прогресс нашему нравственному развитию. Каждый день на протяжении многих лет наблюдателю будет открываться незнакомая, неожиданная красота местной жизни. Как и в любых других местах, у нее есть свои темные стороны, но даже они выглядят светлыми по сравнению с темными сторонами западного бытия. В ней есть свои причуды, глупости, пороки и зверства. Однако, чем дольше ее наблюдаешь, тем больше восхищаешься ее невероятным добронравием, удивительным долготерпением, нескончаемой вежливостью, сердечной простотой и спонтанным милосердием. Наиболее распространенные суеверия, как бы их ни осуждали в Токио, имеют для нашего западного понимания редчайшую ценность как фрагменты устной литературы надежд, страхов, опыта добра и зла, незатейливых попыток разгадать загадку Невидимого. Многое из того, что легкие, добрые суеверия народа добавляют к очарованию японской жизни, может понять только тот, кто долго жил в глубинных районах страны. Некоторые из верований зловещи, например вера в демонов-лисиц, которую быстро вытравливает государственное образование, однако многие по красоте фантазии сравнимы с греческими мифами, в которых до сих пор черпают вдохновение благороднейшие поэты современности. В то же время многие другие суеверия, поощряющие милость к несчастным и доброту к животным, не могут не преподнести крайне положительный нравственный урок. Удивительная самоуверенность домашних животных и относительное бесстрашие многих диких существ в присутствии человека, тучи белых чаек, кружащие вокруг любого парохода в ожидании милостыни в виде крошек, шум крыльев голубей, слетающих с карнизов храмов к рисовым зернам, рассыпанным для них паломниками, привычные аисты в старых общественных парках, олени, ждущие у святых мест лепешек и ласки, рыбы, высовывающие морды из священных прудов с цветками лотоса, стоит только тени незнакомца пасть на воду, – все эти и сотни других милых сцен навеяны причудами, которые хоть и называются суевериями, в простейшей форме внушают великую истину о единстве всего живого. И даже если взять менее симпатичные верования, предрассудки, гротескность которых способна вызвать улыбку, беспристрастному наблюдателю не мешает вспомнить, что об этом говорил Лекки.
Многие суеверия, несомненно, соответствуют греческой концепции рабского «страха перед богами» и принесли человечеству неописуемые страдания, но есть и множество других. Суеверия затрагивают как наши надежды, так и наши страхи. Они нередко удовлетворяют самые сокровенные желания сердца. Дают уверенность там, где разум может предложить лишь возможности или вероятности. Создают представления, на которых любит задерживаться воображение. А иногда даже придают моральным истинам новое звучание. Порождая желания, которые только они способны удовлетворить, и страхи, которые только они способны успокоить, суеверия часто становятся необходимым элементом счастья. Их способность утешить человека наиболее ощутима в томительные или тревожные часы, когда тот больше всего испытывает нужду в таком утешении. Нам больше дают наши иллюзии, чем наши знания. Воображение, являясь, по сути, элементом творчества, быть может, помогает нашему счастью больше, чем разум, который критично и разрушительно действует в основном в сфере умозаключений. Грубый амулет, который дикарь в час опасности или беды уверенно прижимает к груди, икона, которая, как считается, освящает и защищает лачугу бедняка, могут дать более реальное утешение в самый тяжелый час человеческих страданий, чем величайшие философские теории. Нет более серьезной ошибки, чем воображать, что, когда критический дух уйдет в мир иной, все приятные убеждения останутся, а болезненные погибнут.
То, что критический дух модернизированной Японии сейчас косвенно помогает, а не противостоит попыткам зарубежных фанатиков разрушить простую и радостную веру народа и заменить ее жестокими суевериями, из которых сам Запад давно интеллектуально вырос, – измышлениями о безжалостном Боге и бесконечных страданиях в аду – не может не вызывать сожаления. Более ста шестидесяти лет назад Кемпфер писал о Японии: «В практической добродетели, житейской чистоте и самоотдаче в отношении к ближнему японцы намного превосходят христиан». И за исключением тех мест, где местные нравы пострадали от иностранной заразы, как, например, в открытых портовых городах, эти слова справедливы по сей день. По моему собственному убеждению, а также по убеждению многих беспристрастных и более опытных наблюдателей японской жизни, Япония ничего не выигрывает от обращения в христианство, ни в моральном, ни в каком-либо другом плане, но очень многое теряет.
Из двадцати семи очерков, которые вошли в этот том, четыре были первоначально приобретены различными газетами и представлены здесь в значительно измененном виде. Шесть были опубликованы в журнале «Атлантик мансли» (1891–1893 гг.). Прочие, составляющие основную часть работы, ранее нигде не публиковались.
Л.Х.
Кумамото, Кюсю, Япония, 1894 г.
Глава первая
Мой первый день на Востоке
«Не забудьте, как можно скорее записать первые впечатления, – предупредил меня добрейший профессор-англичанин Бэзил Холл Чемберлен, с которым я имел удовольствие познакомиться вскоре после моего прибытия в Японию. – Они, знаете ли, эфемерны. Поблекнув, уже никогда к вам не вернутся. Какие бы необычные впечатления от этой страны вы ни получили позже, ничто не сравнится по степени очаровательности с первыми». Я пытаюсь восстановить свои впечатления по торопливым заметкам, сделанным в то время, и вижу, что подробности намного труднее уловить, чем оставленное ими очарование. Из моих воспоминаний о первых днях улетучилось нечто, чего я больше не могу восполнить. Несмотря на всю свою решимость последовать дружескому совету, я пренебрег им. В те первые недели я не мог заставить себя сидеть в четырех стенах и писать, в то время как на обласканных солнцем улицах японского города предстояло так много увидеть, услышать и почувствовать. Но даже если бы я сумел оживить в памяти первые ощущения, сомневаюсь, что мне удалось бы выразить их словами. Первое очарование от Японии невесомо и недолговечно, как аромат духов.
Оно началось для меня с первой поездки на куруме из европейского квартала Йокогамы в японскую часть города. Дальше следует мой рассказ обо всем, что я смог вспомнить.
Часть 1
Как изумительно сладостно первое путешествие по японским улицам, когда ты не можешь попросить возницу курумы иначе как жестами, отчаянной мимикой двигаться куда глаза глядят, в какое угодно место, потому что все вокруг невыразимо привлекательно и ново, – таково первое реальное ощущение от пребывания на Востоке, в далеком краю, о котором ты столько читал, так долго мечтал, но который, представ теперь воочию, совершенно тебе неведом. Романтика заключена даже в первом полном осознании этого довольно простого факта. Для меня оно необъяснимо смешалось с божественной прелестью дня. Утренний воздух обладает невыразимым очарованием, он прохладен, как вся японская весна и ветры, прилетающие со снежного конуса Фудзи. Это очарование вызвано, пожалуй, не столько теплыми оттенками, сколько мягчайшей ясностью – невероятной прозрачностью атмосферы, имеющей в себе очень мало голубизны, сквозь которую даже отдаленные предметы видны с удивительной четкостью. Солнце пригревает в меру, рикша или курума – самое крохотное и самое удобное средство передвижения, какое себе можно представить. Уличные пейзажи, наблюдаемые поверх танцующей, похожей на верхушку гриба белой шляпы обутого в сандалии возницы, обладают такой притягательной силой, что вряд ли могут когда-либо надоесть.
Ты как будто оказался в стране эльфов, ибо все вокруг маленькое – маленькие дома под синими крышами, маленькие витрины с синими занавесками, маленькие улыбчивые люди в синих одеждах. Иллюзию нарушают лишь отдельные высокие прохожие-иностранцы да вывески с нелепым подражанием английскому языку. Такой диссонанс только подчеркивает неподдельность, но отнюдь не умаляет обаяние причудливых маленьких улочек.
