Юлия Булгакова: Давай не будем молчать. Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен
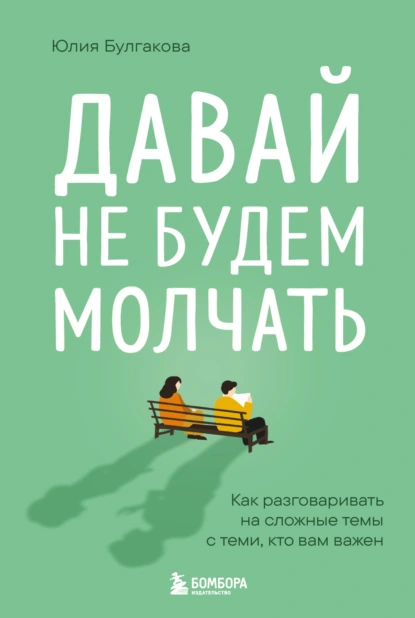
- Название: Давай не будем молчать. Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен
- Автор: Юлия Булгакова
- Серия: Разреши себе чувствовать. Книги карты и воркбуки для обретения внутренней силы
- Жанр: О психологии популярно, Саморазвитие / личностный рост
- Теги: Взаимоотношения, Доверие, Преодоление себя, Психологическая помощь, Психология личности, Психология отношений, Самосовершенствование, Сложные отношения, Советы профессионалов, Эмоциональная близость, Эмоциональное развитие
- Год: 2025
Содержание книги "Давай не будем молчать. Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен"
На странице можно читать онлайн книгу Давай не будем молчать. Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен Юлия Булгакова. Жанр книги: О психологии популярно, Саморазвитие / личностный рост. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Юлия Булгакова – автор бестселлера «Разреши себе чувствовать», психолог со стажем более 30 лет, индивидуальный и командный коуч, сопровождающий топовые команды и первые лица компании, спикер TEDx.
Нам страшно сказать близким о наболевшем. Мы боимся разрушить отношения начальством, открыть свою уязвимость перед партнером или услышать то, к чему были морально не готовы. Но именно честные и открытые разговоры делают важные связи по-настоящему крепкими, дают старт самым интересным проектам в вашей жизни запускают лучшие проекты и приносят облегчения застаревшей обиды.
В своей книге Юлия Булгакова дает исцеляющие рецепты, подходы и советы, чтобы в стрессовой коммуникации вы чувствовали себя максимально спокойно.
Благодаря этой книге вы научитесь:
• сглаживать острые углы в общении;
• легко и мудро подбирать слова, чтобы выразить свои мысли и ощущения;
• понимать, что на самом деле хочет сказать другой человек;
• говорить о сложном без обид и претензий;
• распутывать клубок недомолвок.
Онлайн читать бесплатно Давай не будем молчать. Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен
Давай не будем молчать. Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен - читать книгу онлайн бесплатно, автор Юлия Булгакова
Серия «Разреши себе чувствовать»
© Воронова А. С., фото на обложке, 2025
© Бортник В., иллюстрация на обложке, 2025
© Булгакова Ю.Л., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Молчание вовсе не золото
Из всех привилегий взрослой жизни возможность вести судьбоносные разговоры – самая роскошная. Стоит от нее отказаться, и половина прелестей нашего с вами существования летит в «черную дыру». Не сбываются классные проекты, рушатся бизнесы, сходят на нет важные отношения, рвутся дружеские связи.
Как-то я пришла на укладку к своему мастеру. Мы общались с Машей еще со студенческих времен: много знали друг о друге и всегда с удовольствием вели взрослые разговоры о важном. Но в этот раз Маша была «совсем не Маша» – молчаливая, напряженная, что однозначно считывалось по рукам, спине, лицу и тяжести молчания. Оно было колючее, я бы даже сказала, оборонительно-нападающее – только попробуй тронь.
Прошли те времена, когда я могла сделать вид, что не замечаю внутреннего напряжения у собеседника, абстрагироваться и продолжать общаться как ни в чем не бывало. Сейчас я не пропускаю ничего: внимательно подбираю слова или вопросы для любого человека, обозначаю, что чувствую, проверяю предположения и помогаю выразить внутреннее состояние. Уверена, прочитав эту книгу, вы тоже будете гораздо быстрее и легче подбирать слова для своих мыслей, чувств и ощущений. А еще понимать, что на самом деле хочет выразить другой человек.
В общем, я больше не молчу, чем часто раздражаю и даже пугаю близких, которые приготовились присыпать свою боль «песочком». Поэтому я посмотрела на Машу и спросила:
– Что случилось?
– Все нормально, – буркнула она.
Ох уж это «все нормально», прикрывающее боль, напряжение, обиду и бог знает что еще. С недавних пор я категорически запретила эту фразу своему языку, чтобы не врать ни себе, ни другим. И больше на нее не ведусь ни в каких разговорах.
– Нормально – это когда нет явных признаков патологии, так что рассказывай про неявные, – улыбнулась я, а за мной и Маша. Ну слава богу.
– Вчера разговаривала со старшей, – выдохнула она удрученно.
Старшая дочь Маши живет в Москве, видятся они крайне редко, и даже разговоры по телефону для нее практически как живая встреча.
– И?
– Представляешь, она вдруг заявила, что я всегда была холодной матерью и никогда не вникала в ее проблемы.
– До психотерапевта, наверное, дошла, – пошутила я. – И что ты? Спросила, что она имела в виду и почему сейчас про это заговорила?
– Ничего я не спросила, свернула разговор. Мне ничего не хотелось выяснять и уж тем более оправдываться. Не хватало еще унижаться…
– То есть ты хочешь сказать, что на этом ваше общение закончилось? Ты обиделась и замолчала?
Маша молча отвернулась. Что тут скажешь, самое сложное в отношениях с детьми – это признать и осознать свою родительскую уязвимость. И тем более сказать об этом вслух. Большинство предпочитает обидеться на детей и тащить неприятный осадок с собой в старость, отжимая потом внимание и любовь у своих взрослых чад.
– Обиделась? – повторила я.
– Нет, просто неприятно. Да и с какой стати я буду про это с ней разговаривать? Нечего меня судить. Пусть скажет спасибо, что я ей все эти годы помогаю.
Маша закипала, не замечая, как ее руки все больше дрожали, движения становились нервными, а интонация все более резкой. Как-то не так мне представлялась укладка перед фотосессией.
– А ты видишь, что разговор на самом деле не закончен? Он идет полным ходом у тебя внутри. И у дочки, я уверена, тоже.
И тут Маша расплакалась, а значит, разговор не просто идет полным ходом, он буксует, проходит сложные препятствия и обязательно дойдет до кульминации, хотя вербально участники его завершили.
Так происходит всегда.
Ни один разговор не завершается, пока не проживет кульминацию, разрешение и завершение. Если участники не прожили разговор до конца, он будет продолжаться через внутренний диалог. Это когда собеседника нет рядом, а мы с ним мысленно разговариваем, что-то доказываем, объясняем, оправдываемся или предъявляем претензии, вкладывая энергию и эмоции.
Я называю это коммуникативным самообслуживанием, и поверьте, это самая распространенная привычка в отношениях между людьми.
Но что бы мы ни поворачивали внутри, невысказанное вслух неконтролируемо управляет нашим поведением, реакциями, эмоциями, состоянием, отношениями и даже нашим будущим. Только представьте, сколько у каждого из нас таких диалогов, сколько времени и сил тратится на эти внутренние «стиральные барабаны».
Я искренне сочувствовала Маше: из таких коммуникативных коллапсов выбираться сложно, а вот оказаться там проще простого.
– Послушай, а ты холодная мать? Считаешь себя такой? – спросила я.
– Нет! Я категорически не согласна. Конечно, может, я и не образец тепла, но точно не холодная.
– Тогда с чего обижаться? Она не про тебя говорит, она говорит про свои ощущения. И слава богу, что говорит. Знаешь, пока мы готовы друг другу что-то предъявлять, все можно изменить. Почему ты не спросила, как она чувствовала твою холодность, через что? Как она понимает, что это именно холодность, а не другое ощущение? Что именно ей кажется холодным? Что значит для нее теплая мать? И есть ли что-то, в чем ты была теплой?
– Юль, да где же столько осознанности взять и энергии, чтоб вести «смычком» вот так, не останавливаясь, да еще и когда ты слышишь в свой адрес крайне неприятные вещи? – горько спросила Маша.
А правда, где? Где взять энергию для таких вопросов? Где взять силы, чтоб услышать ответы? Так именно там – в продолжении разговора, в движении через воображаемый или видимый тупик, в открытости и честности, в смелости продолжать и не замалчивать, проваливаясь в отчуждение и обиду.
Сколько там энергии, кто бы только знал! Мне даже не с чем сравнить. Бездонное море. Тупик, он же импульс, он же толчок, он же трамплин для движения. Но мы из эгоистического страха оказаться непонятыми и отвергнутыми усиленно тормозим себя, оттягивая к обиде и напряжению. Страх здесь самый что ни на есть «шкурный»: разговор после «точки кипения» может разрушить наши представления о том, как нас воспринимают и кто мы есть для другого человека, а значит, проявить неприглядные стороны, свои и собеседника. А вдруг отношения совсем развалятся, что потом с этим делать? Страшно. Вот мы и глотаем слова, молчим: так привычнее, понятнее, проще.
Напряжение → боль → обида → тупик → молчание → отчуждение → холодность → разрыв → пустота. Если мы искусственно прерываем коммуникацию, хотя внутри бурлит, то такой цепочки не избежать.
” Миллион несказанных нужных слов и незаданных вопросов, оседающих в глубинах сердца, в напряжении тела, в усталости ума и в разочаровании души, становятся тяжелым грузом. Где уж тут взять энергию?
Невысказанное ее съедает.
Мы столько всего умеем: летаем в космос, создаем невероятные шедевры, строим мощные бизнесы, зарабатываем деньги… Но открыть рот и сказать все, что наболело, открыть свою уязвимость через слова, пропустить через горло боль, обиду, слезы, радость, любовь, задать сложный вопрос – это до сих пор вызывает у нас страх и напряжение. И мы молчим. Надеемся, что все решится само, или говорим языком претензий и обид, подавляя истинные чувства, отчуждаясь от другого, а заодно и от себя.
В общем, Маше я молчать не дала, «причинила» добро и помогла подготовиться к разговору с дочкой, а потом инициировать его.
Идея написать книгу родилась у меня именно в тот момент. Я почти 30 лет сопровождаю сложные разговоры партнеров, команд, творческих групп и сообществ. Работаю с клиентами индивидуально, обучаю коучингу, помогаю людям проживать сложнейшие кризисы, нежданные изменения, трансформации. Поэтому точно знаю, сколько людей носят внутри невысказанное. Они понятия не имеют, что с этим надо что-то делать, а не таскать в себе всю жизнь, пока не станет окончательно поздно.
Я уверена, что говорить о сложном и важном с другим человеком можно без обид, претензий и защит. В этой книге я поделюсь с вами и практиками, и свежими идеями, которые помогут все это воплощать в непростой коммуникативной ежедневности.
Возможно, не с каждым можно договориться, возможно, не ко всем переживаниям можно подобрать слова, но в этой книге вы встретите много рецептов и подходов, схем и советов, чтобы чувствовать себя максимально устойчиво в любом сложном разговоре. Это могут быть разговоры с близкими, с друзьями, с детьми, с пожилыми родителями, с любимыми, с супругами, с родственниками, с коллегами, с руководителями и даже просто со случайными людьми.
Примеры я собрала так, чтоб каждый из вас мог сопоставить прочитанное с тем, что приходится проживать сейчас. Имена всех героев в примерах изменены, а контекст обстоятельств настоящий. Я предлагаю читать книгу от начала до конца, с карандашом и блокнотом, вспоминая свои неслучившиеся или незаконченные разговоры, давая им возможность полноценно завершиться.
Уверена, когда вы прочтете эту книгу, сделаете практики и ответите на приведенные в ней вопросы, ни одно слово не будет застревать у вас в горле. Вы сможете исправлять любую сложность в диалоге, подбирая слова мудро и легко, освобождая себя от болезненного напряжения.
Если человек сглатывает обиду и молчит в 14 лет – это адекватно, если в 30 – это странно, если в 50 – недопустимо. Так что пусть ваш взрослый коммуникативный «почерк» раскрывается с каждым разговором.
Глава 1
Немота детской боли. Почему так сложно говорить о самом важном?
Долгое время меня не отпускало одно детское воспоминание. Осознать его силу и все последствия я смогла будучи уже глубоко взрослой, после продолжительной работы с психологом. Много лет оно остро влияло на мои отношения и с собой, и с эмоционально значимыми для меня людьми, будь то мужчины, друзья, мои дети и даже коллеги.
Мне все было сложно в контакте с людьми: обозначить свои границы; сказать «нет», если меня о чем-то просили; проявить недовольство; высказать, что меня ранило; отстоять свое; искренне признаться в своих желаниях и много чего еще. Я не могла спокойно обговаривать денежные вопросы и часто соглашалась на совершенно неуважительные для себя гонорары. Не говорила открыто ни с одним из своих мужей о сексе или об отношении к себе. Я почти ни с кем не обсуждала то, что чувствовала на самом деле, и мне часто приходилось прятать боль за приветливой улыбкой и остроумной речью.
Я компенсировала обидчивость и ранимость иронией и сарказмом. А по-настоящему проявляла себя только в относительно безопасных условиях для моей острой чувствительности. То есть почти нигде.
Я точно не одна такая, поэтому уверена, что вам, мои дорогие читатели, понятно, о чем говорю. Прежде чем рассказать про тот случай, который особенно ранил меня, дам небольшую предысторию.
Обычно мы шумно отмечали разные праздники. Наша двухкомнатная хрущевка трещала по швам, пытаясь вместить всех родственников, друзей, детей, соседей и коллег. Папа как обычно блистал: он всегда был звездным центром в любой компании. Во-первых, пел и играл на баяне; во‑вторых, отличался яркой внешностью, его многие сравнивали с Аленом Делоном; в‑третьих, мастерски шутил. Его еврейский, цепкий юмор придавал всему, что он говорил, особый «цимес».
Этот папин коронный юмор и был причиной моих детских страданий. Только тогда я не могла не то что обозначить, а даже осознать связь между ними, куда уж там перевести в слова и высказать.
