Герои и их враги в русской мифологии
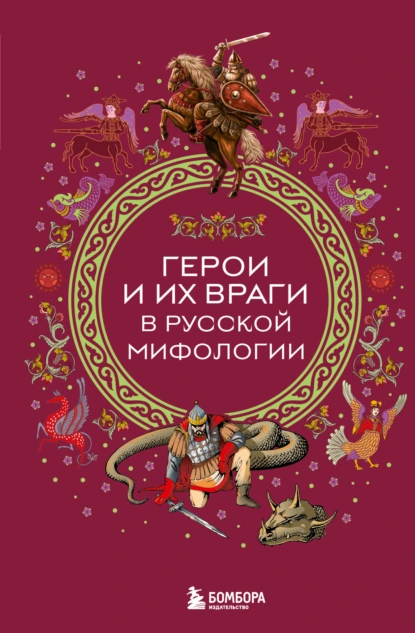
- Название: Герои и их враги в русской мифологии
- Автор: Нет данных
- Серия: Мифы мира. Самые сказочные истории человечества
- Жанр: Мифы / легенды / эпос, Фольклор
- Теги: Добро и зло, Древние боги, Иллюстрированное издание, История мифологии, Легенды и предания, Сказочные герои, Славянская мифология, Фольклор и мифология
- Год: 2025
Содержание книги "Герои и их враги в русской мифологии"
На странице можно читать онлайн книгу Герои и их враги в русской мифологии . Жанр книги: Мифы / легенды / эпос, Фольклор. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Эта сказочная книга приглашает познакомиться с душой русского мифа – извечной борьбой света и тьмы, добра и зла, которую ведут герои и их враги в славянских преданиях, русских народных сказках, былинах и исторических песнях. Она заново откроет знакомые с детства сюжеты о противостоянии Ивана-царевича и Кощея Бессмертного, Ильи Муромца и Соловья-разбойника, удалого гусляра Садко и Морского царя. А истории хвастливого богатыря Ставра Годиновича и разбойника-ушкуйника Василия Буслаева покажут, почему борьба со злом не всегда линейна и однозначна, как нам казалось в детстве, ведь врагом героя может быть…он сам.
Вы узнаете об истоках и скрытых смыслах мифов, сказок, былин и других фольклорных сюжетов, разберетесь в сказочных архетипах по Владимиру Проппу и встретитесь с настоящей душой русской культуры – от древних богов языческой Руси до святых воинов и заступников, от Перуна и Велеса до Петра I и Ермака.
Онлайн читать бесплатно Герои и их враги в русской мифологии
Герои и их враги в русской мифологии - читать книгу онлайн бесплатно, автор
© Афанасьева И. В., текст, 2025
© ИП Москаленко Н. В., оформление, 2025
© Давлетбаева В. В., обложка, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство Эксмо», 2025
Введение
Этот день Горислав запомнит надолго. Из-за напавшей на деревню хвори, занесенной Моровой девой, он пропустил подходящее время для посева и сейчас наверстывал упущенное, работая в поле от зари до зари. Его лошаденка старалась из последних сил, и, если боги будут милостивы, он сможет до темноты закончить распашку с таким трудом отвоеванного у леса участка. Горислав вытер лицо рукавом рубахи и поправил повязку, не дающую поту выесть глаза. Опушка была совсем рядом. Еще два прохода – и он наконец пойдет домой к ожидавшим его хозяйке и детям.
Внезапно резко стемнело. Пахарь поднял голову и взглянул на еще недавно голубевшую чашу небосвода: огромная черная туча почти закрыла солнце, наползая на него двумя отрогами, похожими на челюсти огромного чудовища. Горислав боязливо огляделся по сторонам. Мужики-односельчане, суетясь, разворачивали своих лошадок в сторону дома, побросав грубо сделанные сохи. По-хорошему, Гориславу тоже надо было спасаться бегством, но до окончания работы оставалось совсем немного, и он решил рискнуть. Пахарь хлестнул Сивку по вислому крупу, и тот, коротко заржав, побрел по уже подсохшей после таяния снега земле.
По полю пронесся резкий порыв ветра такой силы, что Горислав пожалел о своем опрометчивом решении и, махнув рукой на стремление наверстать потерянное время, поспешил к коню. Выпрягая Сивку, он все больше ощущал непонятное беспокойство. Почти над головой сверкнула молния, и тут же раздался оглушающий раскат грома. Сивка резко встал на дыбы, забив передними ногами в воздухе. Горислав, не ожидавший от своего уже немолодого коня такой прыти, выпустил вожжи из рук, и конь, брыкаясь, помчался к дому, словно отбивался от неведомого врага.
И тут на землю хлынул ливень, скрывший за водяной завесой окружающий пейзаж. Решив переждать непогоду, Горислав подбежал к опушке леса и встал под кронами могучих деревьев, стараясь увернуться от стекавших по листве струй воды. Это был настоящий конец света: молнии непрерывно сверкали, заливая окрестности мертвым холодным светом, а гром грохотал, закладывая уши, так что Горислав не слышал себя самого, хотя во весь голос молил Перуна о спасении.
Оглушенный грозой, Горислав не заметил, как из-за деревьев появился тощий медведь со свисавшими по бокам клочьями бурой шерсти. Это был шатун – проклятие деревни, за какие-то грехи насланное на нее Велесом. Лесное страшилище с огромными желтыми клыками в оскаленной пасти уже задрало нескольких собак, покалечило двух охотников и оставило следы когтей на дверях почти всех домов, стоявших на околице деревни. Кто-то или что-то подняло его из берлоги посреди зимы, и сейчас оголодавший, а потому бесстрашный зверь спешил к ничего не подозревавшей добыче, презрев собственные инстинкты, требующие от него спрятаться от грозы.
Горислав заметил грозившую ему смертельную опасность, когда косолапый был уже совсем рядом. Страх придал сил, и мужик бросился прочь от хищника через свежевспаханное поле, забыв о том, что от медведя убежать невозможно. Но он мчался, не разбирая дороги, к дому, ожидая каждое мгновение, что на него навалится тяжелая туша и страшные клыки вцепятся в шею, ломая позвоночник.
Снова вспыхнула молния, и в громе Гориславу явственно послышался близкий рев зверя. В его легких уже не было воздуха, и несчастный упал на колени, отдавшись на волю богов. Но медведь почему-то не нападал. Более того, Гориславу показалось, что гроза стала заканчиваться и потоки воды уже не с такой силой били о землю, превращаясь из ливня в благодатный весенний дождь.
Но почему его не загрыз хозяин леса? Может, побоялся во время грозы выскочить из-под спасительного лесного полога? Горислав поднялся на ноги и оглянулся. Неподалеку от него лежала туша медведя с обугленной шерстью. Не веря своим глазам, Горислав подошел к поверженному хищнику и опасливо обошел вокруг, словно тот мог еще вскочить после удара молнии.
Убедившись в смерти косматого чудища, Горислав опустился на землю, невзирая на стоявшие кругом лужи, и облегченно заплакал, пользуясь тем, что никто не видит его мгновенной слабости. Дождь лил все тише и тише. Пауза между вспышками молний и грохотом грома все увеличивалась. Туча уходила на запад, небо светлело на глазах…
Горислав смахнул с лица слезы и, поднявшись, отряхнул промокшую насквозь одежду, а затем направился к дому, оглядываясь на поверженного хозяина леса. Он все-таки закончит сегодня пахоту, чего бы это для него ни стоило, надо только разыскать Сивку. Если уж сам Перун спас его жизнь, это что-то да значит…
Познание мира через миф
К сожалению, мы мало знаем о дохристианской мифологии на Руси, поскольку отечественных литературных записей тех времен не существует. Ученым приходится по крупицам собирать крохи мифов, сохранившиеся в загадках и поговорках, старинных плачах, апокрифической литературе и в трудах иностранных историков.
Неизвестный автор. Обложка детской книги с изображением жилища Бабы-яги. Тип. изд-ва И. Д. Сытина. 1915 г.
В отличие от других древних народов – греков, римлян, египтян, индийцев, – успевших создать государства и за сотни лет привести свои мифы в более-менее стройную систему, языческая Киевская Русь в форме единого государства просуществовала чуть больше ста лет. До того на этих землях жили отдельные славянские племена и союзы племен, и пантеоны их богов могли различаться. Даже если у двух племен в целом почитались сходные божества, «акценты» могли быть разными в зависимости от основных занятий, климата и уклада жизни: например, в одном племени больше почитали богов – покровителей скотоводства, в другом – божеств, олицетворявших земледелие. В результате такой «нестыковки» один и тот же персонаж в разных местах мог исполнять различные функции. Яркий тому пример – известная всем Баба-яга. То она детишек в печь отправляет и черепа на тын насаживает, то доброму молодцу клубочек путеводный дает и помогает на тот свет по делам сбегать, то мечом размахивает. Она, правда, не богиня, но менее противоречивой от этого не становится. Есть и еще одна версия: в дохристианской мифологии Баба-яга была пограничным персонажем, связывавшим мир живых и мир мертвых, этим и обусловлена ее противоречивость. И кстати, костяная нога – тоже примета частичной принадлежности к загробному миру.
Да и жившие на одной территории персонажи не оставались статичными, а меняли свои характеры по мере развития цивилизации, становясь более гуманными к людям. Или изначально обладали на редкость противоречивыми чертами – причин у этого было много. Например, древние боги у всех народов ассоциировались с силами природы, а стихия не может быть положительной или отрицательной, она по большому счету непредсказуема. Скажем, Аполлон у древних греков предстает в мифах и как светозарный красавец с кифарой, покровитель муз и отец бога медицины Асклепия, и кровожадным божеством, безо всяких душевных терзаний содравшим кожу с Марсия и перебившим ни в чем не повинных детей хвастливой Ниобы. Правда, с течением времени и с развитием мифа такая двойственность часто сглаживалась.
Огромный вклад в изучение русской мифологии внес русский собиратель фольклора, историк и литературовед Александр Николаевич Афанасьев, живший в середине XIX века.
Его судьба была трагичной. Окончив юридический факультет Московского университета, он преподавал словесность и русскую историю, а затем работал в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Дослужился до надворного советника. Параллельно с основной работой интересовался литературой и фольклором. Печатался в основанном А. С. Пушкиным журнале «Современник» и в «Отечественных записках», оказавших большое влияние на литературную жизнь России. Пытался без особого успеха издавать журнал «Библиографические записки».
Первый сборник А. Афанасьева «Русские народные легенды» был забракован цензурой, которую впоследствии поддержал Синод из-за не совпадавших с официальной версией народных историй о житии святых и Христа.
Но главным трудом своей жизни А. Н. Афанасьев считал трехтомник «Поэтические воззрения славян на природу», в котором изложил взгляды на солнечную мифологию древних славян, связав миф с процессами, происходящими в природе. Увы, его колоссальный труд, основанный на огромном количестве материала, остался незамеченным широкой публикой. И только вышедший впоследствии двухтомник «Русские детские сказки» вызвал у читателей восторг, и так получилось, что мы сейчас помним Афанасьева не как фольклориста-теоретика, а как человека, собравшего более шестисот русских сказок, которыми мы зачитываемся до сих пор.
Неизвестный автор. Портрет Александра Николаевича Афанасьева из сборника «Народные русские сказки». XIX в.
Со становлением Киевской Руси как государства потребность в «божественной унификации» становилась все сильнее. Наконец, князь Владимир попытался привести религиозную жизнь своих подданных в более-менее стройную систему и поставил неподалеку от своего жилища идолов шести богов – Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Мокоши и Семаргла (Симаргла) с главенствовавшей ролью Перуна, бога-громовержца[1]. Уточним: основной источник, благодаря которому нам известно об этом событии, – летопись «Повесть временных лет», созданная в начале XII столетия. Предположительный автор летописи, монах Нестор, мало того что не был непосредственным свидетелем этих событий, так еще и судил о них со своей христианской точки зрения. Поэтому и в перечне имен «божественной шестерки», и в описании самого события возможны неточности: «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами»[2]. Из-за уже упоминавшейся нехватки информации о дохристианских богах славян мы не можем с уверенностью судить о том, каковы были функции каждого из шести богов Владимирова пантеона. Практически не вызывает сомнения тот факт, что Перун почитался
Неизвестный автор. Радзивиловская летопись. Княжение Владимира Святославича в Киеве; воздвижение по его повелению на холме деревянных фигур бога Перуна и других языческих божеств. XV в. [3]
как громовержец и был, по сути, аналогом греческого Зевса, скандинавского Тора и многих других подобных богов. Более или менее «установлена личность» Мокоши – покровительницы женщин, домашнего очага и рукоделия. А вот прочие… Даждьбог, возможно, почитался как бог солнца, плодородия и света. Более того, есть предположения, что изначально именно он, а не Перун, был верховным божеством. Сомнения вызывает Хорс – то ли бог Солнца (еще один!), то ли одно из обличий Даждьбога. Стрибога часто определяют как покровителя ветра и воздуха. Загадочнее всех в этой компании, пожалуй, Семаргл: ряд исследователей считают его олицетворением огня, богом растительности либо вестником богов (чем-то наподобие греческого Гермеса). Высказываются также версии, что Семаргл – заимствованное божество: его имя производят от ассирийских слов «поклоняться» и «огненная стихия» или от иранского «Симург» – имени царя всех птиц. Возможно, часто встречающееся в древних орнаментах изображение существа, похожего на крылатого пса или леопарда, – это одна из ипостасей Семаргла (ниже мы еще раз обратимся к возможным обличьям и обязанностям древних славянских богов).
