Юрген Хабермас: «Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом
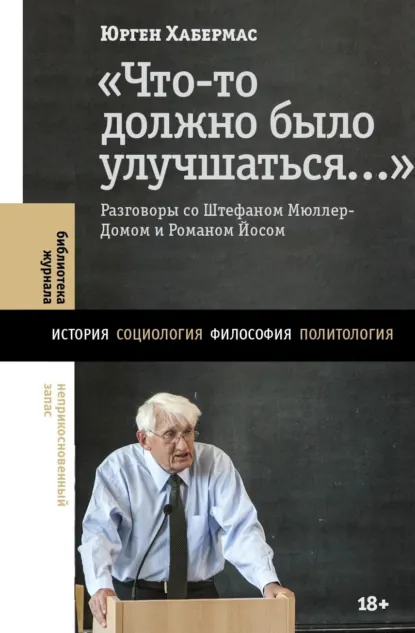
- Название: «Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом
- Автор: Юрген Хабермас
- Серия: Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»
- Жанр: Книги по философии, Политология, Социология
- Теги: Интервью, Политическая философия
- Год: 2024
Содержание книги "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом"
На странице можно читать онлайн книгу «Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом Юрген Хабермас. Жанр книги: Книги по философии, Политология, Социология. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.
Онлайн читать бесплатно «Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом
«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - читать книгу онлайн бесплатно, автор Юрген Хабермас
УДК 316.257
ББК 87.3(4Гем)6 754
Х12
Редактор серии А. Куманьков Ответственный редактор – И. Мавринский (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») Перевод с немецкого Д. Колчигина
Юрген Хабермас
«Что-то должно было улучшаться…»: разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом / Юрген Хабермас. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).
В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.
В оформлении обложки использована фотография Ю. Хабермаса. Európai Bizottság / Dudás Szabolcs. 29.05.2014. Flickr / Európa Pont
ISBN 978-5-4448-2889-2
© Suhrkamp Verlag AG Berlin 2024
All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag AG Berlin
© Д. Колчигин, перевод с немецкого, 2025
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
1. Начала научной биографии
Господин Хабермас, Вы однажды сказали: человек должен сделать в жизни нечто такое, во что укладывались бы его основные интенции. А в чем Ваши основные интенции и в какой мере они повлияли на развитие Ваших теорий, на Ваше профессиональное становление? Говоря конкретнее: что в 1949 году подвигло Вас записаться в Геттингене на изучение философии?
В 1949 году мое поколение сумело взглянуть на окончание Второй мировой войны как на поворотное историческое событие. К началу обучения у нас было уже четыре года времени на то, чтобы осознать всю глубину национал-социалистического водораздела и уяснить для себя, что же скрывалось под всей повседневной нормальностью, при которой мы когда-то росли и жили. Нам это было легче, чем большинству старших. Здесь нет личной заслуги, просто в юном возрасте мы были достаточно восприимчивы и могли ощутить, как из-под кажущейся нормальности тянет какой-то бездонной жутью. Нам не приходилось еще нести ответственность за свои поступки и проступки – а иначе бы сама память о виновности, о соучастии могла бы воспрепятствовать чистому осознанию. Гельмут Коль метко называл это «благодатью позднего рождения». Даже те, кто был лишь немногим старше, вынуждены были прорабатывать уже совсем другой опыт. Именно поэтому, кстати, в «споре историков» я всегда обращал особое внимание на год рождения каждого из участвующих. Национальная среда сделалась насквозь сомнительной, и в ее пределах не возникало никаких психологических препятствий на пути у молодых с их потребностью в самоопределении и просвещении, с их волей к познанию. Было какое-то интуитивное прозрение, и оно отделило критически мыслящую часть моих ровесников от тех затверделых интеллектуальных установок, которые повсеместно окружали нас в тот момент: нацисты вовсе не были инородным телом внутри «в общем-то здоровой» культуры, не были наваждением, которое, по счастью, взяло и развеялось. Им действительно удалось поставить себе на службу то мрачное наследие нашей культуры, которое временами овладевало даже умами великих: так Томас Манн в начале Первой мировой мобилизовался на борьбу с «духом 1789 года». Только этим и можно объяснить заразную силу нацизма, не отпускавшую даже в бомбоубежищах. В первые послевоенные годы (вплоть до денежной реформы) в журналах и книгах все еще стремились как-то отдавать себе отчет о цивилизационном разломе, который, правда, тогда еще так не называли. Поэтому изучение философии для меня в каком-то смысле напрашивалось тогда само собой. Свою роль сыграла, конечно, и семейная история, тоже посодействовавшая моему выбору; помог и отец, охотно оплативший учебу.
Впрочем, сам выбор учебной дисциплины не стоит слишком переоценивать / слишком высоко оценивать, пусть даже философию выбирали исключительно по личному интересу, а об определенной профессии (тем более о преподавательской) тогда и речи не шло. Из выпускников школ в 1949 году в университеты шло пять процентов; сегодня это пятьдесят. Тогда университет давал больше свобод, чем теперь. Мы не просто обучались специальности, а скорее охватывали все темы и обстоятельства, к которым только можно было приблизиться на философском факультете. Программу в известной мере мы составляли сами, а по ходу обучения можно было подобрать себе два второстепенных предмета, необходимых для докторского экзамена, – причем без каких-либо переходных экзаменаций. А изучать философию я решил еще в школе, даже до аттестации.
А как Вы пришли к этому решению? Нас интересует, что Вы могли бы поведать о тогдашней своей жизненной ситуации, в особенности о своем пути к философии. Наверное, было что-то, что произвело на Вас наибольшее впечатление? Ведь в ранней юности Вы вроде бы мечтали стать медиком?
Первоначальное мое желание стать врачом и в целом мои интенсивные занятия человеческой анатомией, а также решение двенадцатилетнего мальчика обучиться на «полевого хирурга» в так называемом юнгфольке – все это, пожалуй, в большей степени связано с подростковой тревожностью, возникшей у меня из‑за проблем с расщеплением нёба, о которой как раз в те годы я внезапно узнал. До этого времени детство мое и юность протекали довольно спокойно, – пусть на школьном дворе иногда и случались какие-то неприятные происшествия, – и мы с моим другом Юппом Дерром прожили эти годы более или менее наивной жизнью. Как бы то ни было, после окончания войны мои медицинские интересы сдвинулись в сторону теоретического знания, тоже под влиянием занятия биологией. Учитель, который в те годы пробудил во мне этот интерес, в нашу школу вернулся после войны из «Наполы» (!), – а значит, скорее всего, он успел побывать нацистом. Нас он, при всем том, наставлял в основах генетики и дарвиновской теории эволюции – очень толково и по-научному строго, без каких бы то ни было заметных коннотаций с «расовой биологией». Интересы мои, впрочем, на тот момент уже вышли за рамки биологии как таковой и продвинулись в антропологическую сторону. Где-то после денежной реформы, допустим, мне в руки попала книга Шульца-Генке1, своего рода учебник психоанализа, подогнанного под нацистские нужды; в последние два года гимназии мне дозволили даже подписаться на журнал «Psyche». Тогда же – в поздние школьные годы – эти мои в широком смысле антропологические интересы соединились с чтением кантовских и гердеровских работ по философии истории. К этому добавился еще сартровский экзистенциализм, – причем познакомился я с ним тоже по книге такого старого нациста, как Отто Фридрих Больнов (наше поколение на Сартра вообще глядело с придыханием, особенно на его театральные пьесы), а затем, конечно, я познакомился с марксистской литературой из коммунистического книжного магазина на улице Банхофштрассе в Гуммерсбахе и – в качестве, так сказать, противоядия – с ордолиберализмом Вальтера Ойкена и Вильгельма Рёпке, снискавшим расположение среди знакомых моего отца.
Все это я прорабатывал в незрелых, доморощенных «эссе», которыми потом осыпал Клингхольца, нашего выдающегося и высоко мною чтимого преподавателя латыни (среди гуммерсбахских учителей он, между прочим, был одним из немногих ненацистов), весьма тем самым действуя ему на нервы. Мой дядя Петер Вингендер, школьный учитель, преподававший также и философию, следил, чтобы волнующий меня предмет не затерялся среди вороха не более чем любопытных материалов, и рекомендовал мне к прочтению действительно «серьезные» вещи, вроде «Пролегомен» Канта. Когда живешь в таком мире и он, в интеллектуальном плане, целиком тебя захватывает, то философию выбираешь практически неосознанно, и нет в этом «фундаментального намерения». Я знал, конечно, что такая специальность влечет за собой определенный риск в жизни. Меня долго преследовало это чувство материальной необеспеченности. Даже когда, вопреки ожиданиям, я сумел получить профессорскую должность, у меня все еще не было никакой уверенности в своих успехах и достижениях, да даже в самом выборе профессии. Лишь в последние франкфуртские годы, восьмидесятые и девяностые, я постепенно почувствовал, что начинаю в известной степени овладевать своим делом: как преподаватель и как ученый.
Но разве не было какого-то «внутреннего» мотива при выборе специальности? Некой потребности, может быть, разобраться в собственных ценностных ориентациях?
Это больше похоже на платоновское самопонимание философии, которого я никогда не разделял. Оттого и было у меня всегда подозрение, что я «неправильный» философ: не тот, – уж простите за стереотипы! – кто отталкивается от своей собственной жизненной ситуации и устремляется к глубинам, к подлинно метафизическим прозрениям. Мои мотивы больше проистекают из марксизма и прагматизма. Мне кажется, что стремление хотя бы чуть-чуть улучшить мир или внести хотя бы какой-то вклад в борьбу с постоянно надвигающимся регрессом – это очень даже достойный мотив. Так что меня полностью устраивает имя «философа и социолога».
А просто «философ» – это уже сомнительно?
