Александр Чудаков: Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого
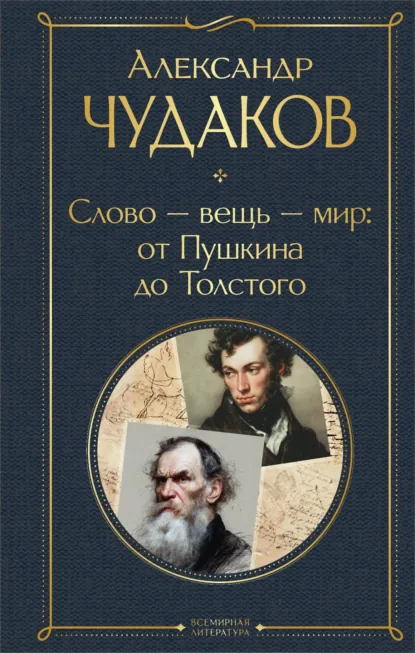
- Название: Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого
- Автор: Александр Чудаков
- Серия: Всемирная литература
- Жанр: Литературоведение
- Теги: Великие русские писатели, Классики русской литературы, Культурное наследие, Русская культура
- Год: 2025
Содержание книги "Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого"
На странице можно читать онлайн книгу Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого Александр Чудаков. Жанр книги: Литературоведение. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Чудаков Александр Павлович ( 1938 – 2005) – доктор филологических наук, известный литературовед и писатель, крупнейший исследователь творчества Антона Чехова.
В центре внимания автора книги – целостное изучение художественных миров писателей и того главного принципа, который положен в основу построения каждого из них. Книга богата свежими наблюдениями над поэтикой Пушкина, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова. Во второй ее части читатель найдет очерки о выдающихся отечественных филологах – пионерах изучения поэтики: А. Потебне, В. Шкловском, В. Виноградове.
Онлайн читать бесплатно Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого
Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого - читать книгу онлайн бесплатно, автор Александр Чудаков
© Чудаков А. П., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
I
К поэтике пушкинской прозы
Мир писателя, если его понимать не метафорически, а терминологически – как некое объясняющее вселенную законченное описание со своими внутренними законами, в число своих основных компонентов включает: а) предметы (природные и рукотворные), расселенные в художественном пространстве-времени и тем превращенные в художественные предметы; б) героев, действующих в пространственном предметном мире и обладающих миром внутренним; в) событийность, которая присуща как совокупности предметов, так и сообществу героев; у последних события могут происходить как во внешней сфере, так только и целиком в их мире внутреннем. Изучение поэтики писателя и устанавливает прежде всего принципы и способы его описания предметов, героев и событий.
1
Одна из главных особенностей пушкинского прозаического описания издавна виделась в минимальном количестве подробностей. В объекте ищется главное, все остальное не отодвигается на второй план, но отбрасывается вовсе. «Читая Пушкина, кажется, видишь, – замечал К. Брюллов, – как он жжет молнием выжигу из обносков: в один удар тряпье в золу, и блестит чистый слиток золота» [1]. На сопоставленье напрашиваются слова Гоголя, который говорил о себе, что он собирает «все тряпье, которое кружится ежедневно вокруг человека» [2]. «Тряпичная» символика представляется многозначительной, подчеркивая разноту подхода к изображению предметного окружения человека. Бытовая вещь и подробность в прозу Пушкина имеет доступ ограниченный.
Это хорошо видно в его исторической прозе, несмотря на естественность в таковой художественно-реставраторских задач. Бытовой фон «Арапа Петра Великого» в значительной степени основан на очерках А. О. Корниловича. Но, например, «из подробного описания костюма Петра (у Корниловича упомянуто и нижнее платье, и цветные шерстяные чулки, и «башмаки на толстых подошвах и высоких каблуках с медными и стальными пряжками», и другие детали) Пушкин оставляет только зеленый кафтан» [3]. Среди недостатков исторической романистики, перечисляемых Пушкиным, мелочная детализация названа прежде очень существенных других: «Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни!» («Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»). Во впечатлении необремененности пушкинских описаний (в том числе исторических) не последнюю роль играет замена характеристики указанием; крайнее выражение этого способа находим в «местоименном» изображении дня государыни в «Капитанской дочке»: «Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи <…>; что изволила она <…> говорить <…>, кого принимала…»
Негативная программа и позитивный узус точно обозначены в авторском пассаже «Гробовщика»: «Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого европейскими романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки…» Изобразительная скупость демонстративна; однако если нечто, что должно быть живописуемо, не живописуется, оно обозначается. В результате в описании оказались отмечены главные предметные признаки – и социально-временные («русский», «европейский»), и колористические («желтые», «красные»).
Не пришлось менять характера предметного изображения и в географически-этнографических описаниях – принцип разреженности существенных сведений очень там подошел: «Здесь начинается Грузия. Северные долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх» («Путешествие в Арзрум»).
2
Наиболее отчетливо пушкинское ви́дение предметов обнаруживается в пейзаже.
Одна из основных черт прозаического пушкинского пейзажа заключается в том, что число природных феноменов, используемых в нем, исчислимо: время суток, положение светил, состояние атмосферы (ветер или его отсутствие, температура), общий вид окружающей местности. «Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду» («Дубровский»). Применительно, скажем, к Тургеневу о таком ограниченном наборе не может быть и речи – в каждом новом пейзаже возникают десятки новых непредсказуемых наблюдений-деталей о состоянии леса в разное время суток («еще сырой», «уже шумный»), посевов, о разных породах птиц, разном виде капель дождя и т. п.
Такая исчислимость делает то, что всякая деталь обнимает достаточно большой сегмент предметного мира; это необыкновенно усиливает ее значимость и вес. Данная черта свойственна и событийному повествованию; именно она позволяла сближать прозу Пушкина с его планами и черновыми программами [4]: каждый пункт плана – по определению – захватывает существенный и новый отрезок пространства-времени.
Другое важнейшее свойство пушкинской пейзажной детали – ее единичность. Из каждой предметной сферы дается только одна подробность. О луне или ветре дважды не говорится. Если в описании бурана в «Капитанской дочке» о снеге упоминается во второй раз, то это уже другой снег: не «мелкий», а «хлопья». В одном из пейзажей «Путешествия в Арзрум» изображается тишина ночи: «Луна сияла; все было тихо». Может показаться, что в следующем предложении развивается тот же мотив: «…топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии». Но, по сути дела, это уже мотив новый: нарушение тишины, вторжение героя в безмолвие и безлюдье.
Очередная подробность не раскрывает, не поясняет предыдущую. Она – не мазок поверх уже положенной краски, придающей ей лишь новый оттенок, но мазок, кладущийся рядом, добавляющий краску иную; всякая последующая деталь вносит свой, добавочный признак. По мере движения повествования картина не углубляется, но дополняется и расширяется, пейзаж строится не по интенсивному, но по экстенсивному принципу.
Если из двух деталей вторая уточняет и конкретизирует первую, то вторая оказывается по отношению к первой в положении зависимости или, по крайней мере, тесной связанности. Когда же вторая – как в прозе Пушкина – этого не делает, то она ощущается как суверенная и самозначащая.
Мы подходим к важнейшему качеству мира пушкинской прозы – самостоятельности, резкой отграниченности в ней художественных предметов друг от друга – их отдельностности.
Прозаическая традиция XVIII в. (и особенно та, к которой был прикосновенен Пушкин, – карамзинская, а также проза романтиков) начинала пейзаж с некоей эмоционально-оценочной тезы: «Но всего приятнее для меня то место, на котором <…>. …великолепная [5] картина, особливо когда…» («Бедная Лиза»). У Карамзина, Жуковского, Марлинского, В. Одоевского, Ф. Глинки каждая деталь не столько предметна, сколько эмоциональна. В упомянутом пейзаже из «Бедной Лизы» находим «светлую реку», «цветущие луга», «легкие весла». Подробность не существует сама по себе, а соотносится с главным эмоциональным признаком тезы и с эмоциональной же окраской подробности соседней. Господствующая эмоция сливает детали в некое целое. Чрезвычайно характерны в этом отношении концовки многих пейзажей Жуковского: «…прекрасная сельская картина, исчезновение предметов». Или: «Все точно в тонком, светлом покрове».
У пушкинских пейзажей тоже есть теза. «Погода была ужасная» («Пиковая дама»); «Утро было прекрасное» («Капитанская дочка»); «Природа около нас была угрюма» («Путешествие в Арзрум»). Но сходство только внешнее – у Пушкина она не только оценочна, но и представляет собою обозначение некоего объективного качествования, которое далее и раскрывается. Чаще же всего теза имеет констатационный тематически-пространственный характер или просто является вступлением в последующее описание: «День жаркий» («Записки молодого человека»); «Солнце садилось» («В 179* году возвращался я…»). Подробность или вообще не соотносится с тезой (когда теза играет роль только приступа к описанию), или соотносится с нею независимо от своих соседок, их не задевая и не колебля, через их головы. Всеобъединяющей эмоции в пушкинском прозаическом пейзаже, в отличие от стихотворного [6], нет. Все это усиливает отдельностность частей изображенного мира – предметы не касаются друг друга.
3
[7]
Обнаруживается ли феномен отдельностности на более высоких уровнях художественной системы – внутреннего мира, построения характера персонажа?
Еще до окончания печатанья пушкинского романа рецензент писал об Онегине: «Судьи поблагоразумнее <…> советуют смотреть только на его изображение, не противоречит ли он сам себе и т. п. Одни говорят, что нельзя представить его личности как Дон Жуана Байронова, как некоторые лица Вальтер Скоттовы <…>. Иные вовсе отказались видеть в Онегине что-нибудь целое» [8].
В одной только первой главе «Евгения Онегина» находим множество авторских и неавторских характеристик, не очень сочетающихся друг с другом, как то: «молодой повеса» (самая первая, данная во второй строфе), «умен и очень мил», «ученый малый, но педант», «философ в осьмнадцать лет», «забав и роскоши дитя», «повеса пылкий», «непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис», «отступник бурных наслаждений», «порядка враг и расточитель».
Но и в последней главе на героя примериваются разнообразные личины:
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый… (8, VIII).
Между ними в тексте романа возникает герой, внутренний мир которого буквально соткан из несоединимых черт. С одной стороны, «неподражательная странность» (1, XV), с другой – «подражанье <…> Чужих причуд истолкованье» (7, XXIV); то сказано, что он может «коснуться до всего слегка», возбуждая «улыбку дам», то в этой же главе говорится о его «язвительном споре», «злости мрачных эпиграмм»; «наука страсти нежной» вряд ли сочетается с «игрой страстей» (тоже в пределах 1-й главы) или даже «необузданных страстей» (4, IX). В 1 главе Онегин вместе с автором вспоминает «прежнюю любовь» и оценивает вместе с ним «начало жизни молодой» как «лес зеленый» по сравнению с теперешней, где они ощущают себя «колодниками». Но ни о какой любви в ранней молодости Онегина речь не шла; «начало жизни молодой» у него вовсе не было столь замечательно, чтоб вспоминать о нем с тоскою, – это была обычная юность петербургского денди – в романе она подробно описана.
Подобные противоречия давно были замечены [9].
Не меньше противоречий находим в характере Татьяны. Отметим только одно:
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном (3, XXVI).
Но при этом
