Станислав Дробышевский: Ботаника антрополога. Как растения создали человека. Ёлки-палки
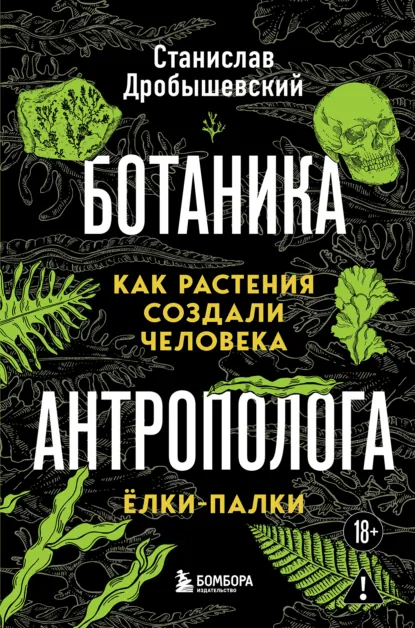
- Название: Ботаника антрополога. Как растения создали человека. Ёлки-палки
- Автор: Станислав Дробышевский
- Серия: Книги Станислава Дробышевского
- Жанр: Эволюция и антропология
- Теги: Антропологические исследования, Мир растений, Природа и человек, Точка зрения, Эволюция человечества
- Год: 2025
Содержание книги "Ботаника антрополога. Как растения создали человека. Ёлки-палки"
На странице можно читать онлайн книгу Ботаника антрополога. Как растения создали человека. Ёлки-палки Станислав Дробышевский. Жанр книги: Эволюция и антропология. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.
Представьте, что история человечества – это всего лишь несколько последних страниц в толстой книге, написанной… растениями. Ведь это именно они создали воздух, которым мы дышим, почву, по которой ходим, и климат, в котором живём.
Эта книга – захватывающее расследование, проведенное антропологом, который показывает, что наша судьба на протяжении миллионов лет была неразрывно связана с миром флоры.
Прочитав ее, вы больше никогда не пройдете мимо обычной травинки, не вспомнив, что именно она и ей подобные – настоящие хозяева этой планеты. Потому что растения могут жить без нас, а мы без них – нет).
А ещё в этой книге вы:
сможете посмотреть на историю Земли и человечества под совершенно новым, «растительным» углом;
поймете, как невидимая ботаническая революция определяет нашу жизнь сегодня – от еды на тарелке до климатических изменений;
узнаете, правда ли, что банан – это ягода, а клубника – нет, и каким образом ленивец дружит с водорослями.
Онлайн читать бесплатно Ботаника антрополога. Как растения создали человека. Ёлки-палки
Ботаника антрополога. Как растения создали человека. Ёлки-палки - читать книгу онлайн бесплатно, автор Станислав Дробышевский
Инге, Володе и Маше – моей любимой семье
© Станислав Дробышевский, текст, 2025
© Высочкина М.И., иллюстрации, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Введение
Мы – животные. Но живём мы за счёт растений. Они окружают нас и сотворяют все основные элементы мира: они качают воду и преобразуют её в воздух, вдыхают новые газы и, сочетая их опять с водой, создают твёрдую материю, которая после горит ярким пламенем и превращается в почву. Они держат реки в руслах и меняют горные породы. Они управляют климатом и меняют историю биосферы. Растения могут существовать без животных, но животные нежизнеспособны без растений. Растения обеспечивают нас всем насущным: домом, едой и кислородом для дыхания. Растения творят человеческую историю от пургаториуса до Гагарина, и до пургаториуса, и после Гагарина.
Невозможно понять происхождение человека, не вникнув хотя бы немножко в ботанику. Именно об этом книга, именно поэтому она написана антропологом. Её цель – не поведать о цветочках, а рассказать о нас, взаимодействующих с цветочками. Возможно, ботаники и могут изучать растения ради растений, но не таков антрополог, ему важно понять суть человека. А человеческая природа неотделима от всех окружающих организмов – павианов и кошек, гиен и жирафов. И все они завязываются на растения.
Понятно, что в основном речь должна бы идти о далёком прошлом. Тут нас подстерегает первая великая проблема: мы мало знаем об эволюции растений. Растения плохо сохраняются, а того реже – в сравнительно собранном состоянии. Сплошь и рядом описаны древние стебли, но никто не знает, как выглядели листья этого растения. От других есть отпечатки листьев, но нет корней. Корни не стыкуются с пыльцой или спорами. И уж совсем уникальны и единичны цветы и семена. Мы почти ничего не знаем о форме крон, окраске и ароматах, а ведь они были столь важны для бытия наших пращуров. Но нельзя опускать руки и печалиться, что мы вовсе ничего не знаем. Не такие уж мы безнадёжно бестолковые, не даром же назвали себя «разумными». Скудость ископаемых остатков компенсируется невероятным изобилием современных растений. Их изучение позволяет реконструировать эволюцию растений а, стало быть, и нас.
Кстати, сразу стоит сделать важное замечание: систематика растений – это крайне тёмный лес, в котором разные ботаники ориентируются сильно неодинаковыми путями; кажется, нет двух книг, где бы использовалась одна и та же схема. Несогласия касаются даже самых высоких рангов, что уж говорить о родах и видах. Нет никакого смысла отображать все варианты классификации в одной книге, так что, если читатель видел ранее иную схему – да, и такая тоже есть.
Наши взаимоотношения с растениями многообразны, но вполне сводимы к простой трёхчленной формуле: трава, дрова и жратва. А в целом – ботва.
Водоросли – не растения
Докембрий
Не всё растения, что водоросли. Водоросли – вообще понятие крайне абстрактное, к ним причисляли самые разные организмы и даже не обязательно живущие в воде.
Косвенное отношение к растениям и даже водорослям имеют сине-зелёные водоросли, так как они вообще безъядерные прокариоты-бактерии. «Водоросли» они лишь постольку, поскольку живут в воде, имеют условно-зелёный цвет, умеют фотосинтезировать и часто образуют нити. Ныне биологи предпочитают называть их цианобактериями. Они составляют тип Cyanobacteria (синоним – Cyanophyta) подцарства Negibacteria царства Bacteria (Eubacteria). Как и у всех бактерий, у них нет ядра и, конечно, митохондрий, а их ДНК имеет кольцевую форму. Тем не менее, цианобактерии знамениты своей способностью образовывать цепочки из множества клеток – например, прямые у Tolypothrix tenuis и спиральные у Anabaena spiroides – или шарообразные слизистые колонии, как у Nostoc pruniforme. Получается, цианобактерии вплотную подошли к многоклеточности и почти-почти реализовали её, хотя специализация тканей у них так и не возникла.
Nostoc pruniforme
ДЛЯ ПУЩЕЙ ТОЧНОСТИ
Автотрофность – способность добывать энергию из неорганических источников; подразделяется на хемотрофность – добычу энергии из неорганической химии типа железа или серы, а также фототрофность – добычу энергии из солнечного света. Продуценты – существа, способные синтезировать органические вещества из неорганических, почти синоним автотрофов.
Гетеротрофность – способность добывать энергию только из органических источников. Консументы перерабатывают органику в другую органику. Они делятся на уровни: консументы первого порядка потребляют продуцентов (корова ест траву), второго – консументов первого порядка (волк ест корову), третьего – консументов второго (блоха кусает волка); обычно на трёх порядках всё кончается, но цепочка может продолжаться довольно долго, а её звенья – меняться местами (волки могут загрызть медведя, но и медведь может сожрать волка). Редуценты перерабатывают органику в неорганику; это гнилостные бактерии и грибы.
Появились бактерии в целом и цианобактерии в частности на заре времён – в гадее, или катархее. Кем были и как жили первые живые организмы – большой вопрос. Наидревнейшие следы жизни обнаружены там и сям, но всегда в крайне фрагментарном виде. Отложения Нуввуагиттук (Канада, 3,77–4,3 млрд. л. н.), Джек Хилл (Австралия, 4,1–4,4 млрд. л. н.), Исуа (Гренландия, 3,7–3,8 млрд. л. н.) и Кунтеруна (Австралия, 3,515–3,52 млрд. л. н.) сохранили даже не отпечатки клеток, а химические следы в отдельных кристаллах древнейших пород. Скажем, в Нуввуагиттуке исследователи определили жизнь по лёгкому изотопу углерода в карбонатах, гематитовым микроволокнам и трубочкам наподобие тех, что формируют бактерии.
Достоверные прокариоты известны из палеоархея: Онвервахт (Южная Африка, 3,5 млрд. л. н.), Тауэрс и Маунт Ада (Австралия, Пилбара, Варравуна, 3,47 млрд. л. н.). Все они на одно лицо – почти всегда это цепочки из шариков, по которым крайне трудно понять, как они функционировали и каким современным бактериям были родственны в наибольшей степени.
Самое главное качество цианобактерий – фотосинтез, ставший основой всей последующей биосферы планеты. Конечно, аккумулировать внешнюю энергию и синтезировать с её помощью органику из неорганики можно и иначе – хемосинтезом, но условия для фотосинтеза несравненно благоприятнее. Запас подходящих химических элементов для хемосинтеза есть далеко не везде и обычно быстро кончается, а вот солнышко-колоколнышко печёт каждый день гарантированно миллиарды лет подряд. Древнейшие потенциальные следы фотосинтезирующих цианобактерий обнаружены в австралийском местонахождении Дрессер, Норт Поул (Пилбара, Варравуна), с датировкой 3,47–3,496 млрд. лет назад, а более надёжные – в южноафриканских горах Барбертон, в серии Фиг Три с датировкой 3,2 млрд. лет назад. Принципиальное свойство цианобактерий – оксигенный фотосинтез, то есть такой, при коем выделяется свободный кислород. С этого момента жизнь надёжно встала на рельсы и покатилась по ним колесом Сансары: продуценты – фото- и хемоторофы – производят из неорганики органику, консументы перерабатывают одну органику в другую, а редуценты разлагают органику до неорганики. И в основании всего этого праздника жизни – цианобактерии!
Водоросли, даже когда они не совсем водоросли, а вполне себе бактерии, – фундаментальная основа жизни на планете. Весьма трудно оценить, сколько в мегатоннах или же процентах от массы живого составляют цианобактерии, диатомовые и разные прочие недоводоросли и водоросли, – оценки расходятся на порядки, – но очевидно, что их фотосинтез принципиален для выживания всех прочих организмов Земли. Например, один только род Prochlorococcus может выдавать до 5 % всего кислорода, производимого морскими фотосинтетиками, а Synechococcus – до 20 %! В целом же цианобактерии выдают от 20 до 40 % всего кислорода планеты.
САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
Особенно практически-перспективна спирулина Spirulina (иногда её включают в род Arthrospira), прекрасная своими спиральными колониями-трихомами. Спирулина необычайно продуктивна и в разы эффективнее цветковых растений: её сухая масса на 60 % состоит из полноценного белка со всеми незаменимыми аминокислотами, что превосходит показатели, например, бобовых. В естественных местах произрастания – на озёрах Тескоко в Мексике, Чад в Сахаре и Кукунор в Китае ацтеки, негры и монголы, соответственно, собирали спирулину и делали из неё зелёные лепёшки. Неспроста она оказалась почти незаменимой и для снабжения космонавтов кислородом и едой. Посему марсианские и более далёкие экспедиции наверняка будут держаться на этой прекрасной цианобактерии.
Правда, у всякого процесса бывают минусы. Бесконтрольное выделение кислорода бактериями имело печальные последствия для докембрийской биоты и радостные – для фанерозойской. Кстати, кислород в воды и атмосферу архея и протерозоя добавляли не только бактерии; хитрые тектонические и вулканические процессы приводили к тому же. До поры до времени кислород уходил на окисление железа и всего остального (между делом сформировались крупнейшие месторождения железа в железистых кварцитах – одна из основ нашей нынешней цивилизации), но в некоторый момент его стало слишком много. Часть его поднималась в верхние слои атмосферы и под действием ультрафиолета становилась озоном – и это было хорошо: озоновый слой поглощает самую опасную для РНК и ДНК часть спектра, что снизило частоту мутаций и позволило жить ближе к поверхности воды и донных осадков. А ближе к поверхности воды можно бодрее заниматься фотосинтезом, так что кислорода от этого становилось только больше. Важно, что происходили эти процессы не один миллиард лет подряд!
Процесс шёл, к тому же, рывками, так как факторов было много. Накопление кислорода в воде и атмосфере ускорилось между 2,4 и 2,1 млрд. л. н., причём одновременно по планете расползлись гуронские оледенения, которые, кстати, были частично вызваны тем же кислородом. Дело в том, что проклятый элемент окислял метан, бывший тогда главным парниковым газом. Вместе со слабой светимостью солнца и движениями материков, перегородивших экваториальные течения, это вызвало резкое падение температуры, отчего бактериям-метаногенам только поплохело, отчего метана стало ещё меньше, отчего средняя температура на планете встала на –40 °C! И так не то три, не то четыре, не то шесть раз подряд…
