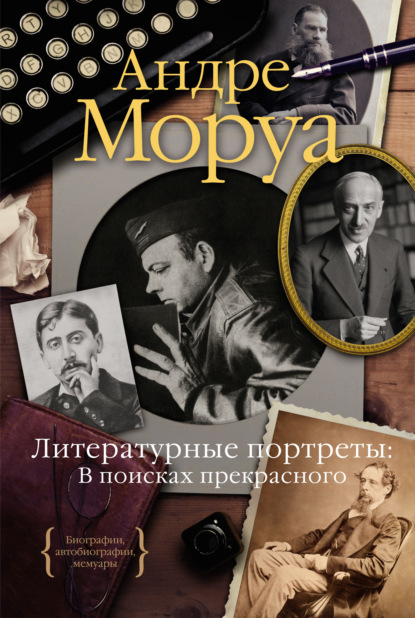Литературные портреты: В поисках прекрасного - Андре Моруа
Литературные портреты: В поисках прекрасного
Но зачем автору прибегать к такой диковинной, завуалированной философии? А затем, чтобы с большей свободой высказать мысли, которые в эссе показались бы шокирующими, разрушительными или даже вызвали бы у читателя отвращение. Зато, чувствуя себя перенесенным в мир, где царит чистое безумие, он тем доверчивее воспринимает самые ошеломляющие истины. Свифт только потому смог высказать достаточно рискованные соображения относительно человеческой природы и современного ему английского общества, что повествовал якобы о стране лилипутов, о державе великанов или о государстве, где лошади управляли людьми. Монтескье, пользуясь посредничеством абсолютно неправдоподобного персиянина [50 - Имеются в виду «Персидские письма» (1721) Шарля де Монтескье (1689–1755). ], насмехался над обычаями, почтение к которым по своему рождению и положению в обществе был обязан изображать хотя бы для видимости.
Таким образом, философские повести и романы оказываются ко двору во времена, когда идеи эволюционируют быстрее, чем общественные установления и нравы. Тогда писатели, терзаемые искушением высказать то, о чем они думают, но вынужденные опасаться строгостей со стороны цензуры, полиции или инквизиции, находят убежище в абсурде, уходят в область невероятного, тем самым обретая неуязвимость. Именно такой была ситуация во Франции XVIII века. На первый взгляд монархия сохраняла свою мощь, она стояла на страже религиозной и философской ортодоксальности минувших столетий. Рука ее судей была тяжела. Однако, по существу, литераторы и мыслящая элита уже усвоили новые идеи и жаждали об этом заявить. Возможность сделать это открыто была не совсем исключена, доказательство тому – «Философский словарь» Вольтера, его же «Опыт о нравах», статьи в «Энциклопедии». Но оставалось немало и таких тем, подступиться к которым было мудрено.
Пользуясь для этой цели фантастической формой, автор получал шанс завоевать внимание не только вольнодумцев, но и читателей, мыслящих более робко, и тем самым расширить свою аудиторию. Заметим, что подобный тип произведений был тогда в большой моде. Со времени публикации «Тысячи и одной ночи» в переводе Галлана (1704–1717) и «Персидских писем» Монтескье (1721) ориенталистика стала служить прозрачной маской для тех умов, чьи дерзновения приходилось умерять осторожностью. Вольтер нуждался в этом больше, чем любой другой.
I
Странно, что он пришел к этому живому, вольному (в обоих смыслах слова) жанру не смолоду, а гораздо позднее. Если не считать «Приключений барона Гангана», которые никогда не были опубликованы, хотя из переписки Вольтера с прусским кронпринцем известно, что такой текст существовал, первая философская повесть Вольтера «Мир, как он есть» написана в 1747 году. Это было время, когда он после одного неприятного происшествия скрывался вместе с госпожой дю Шатле у герцогини де Мэн [51 - Шатле Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретеиль, маркиза дю (1706–1749) – математик, физик, возлюбленная Вольтера. Анна Луиза Бенедикта де Бурбон (1676–1753) – супруга внебрачного сына Людовика XIV, герцога Мэнского. ]. Там были сочинены «Видения Бабука», «Мемнон», «История путешествий Скарментадо», «Задиг». Вольтер что ни день писал по главе, а вечером показывал герцогине: «Иногда после трапезы он читал повесть или небольшой роман, который наскоро сочинял за день, чтобы развлечь ее…»
Эти философские романы, неизменно придуманные ради доказательства какой-либо нравственной идеи, писались в легкой захватывающей манере. Герцогине де Мэн они так нравились, что и другие пожелали их узнать, а потому Вольтера заставляли читать вслух. Читал он мастерски, как большой актер. Повести имели огромный успех, слушатели умоляли автора напечатать их. Он долго отнекивался, говорил, что эти маленькие безделки годятся, чтобы позабавить публику, но долгой жизни не заслуживают. Писатели – плохие судьи собственных творений. В восемнадцать лет Вольтер думал, что потомки будут знать его как великого трагического актера, в тридцать рассчитывал прославиться как историк, в сорок – как эпический поэт. В 1748 году, сочиняя «Задига», он вообразить не мог, что этой маленькой историей будут радостно зачитываться и в 1958-м, когда «Генриада», «Заира», «Меропа» и «Танкред» будут спать вечным сном на библиотечных полках.
Современники Вольтера заблуждались на этот счет заодно с ним. Они придавали мало значения легкомысленным повестушкам, которые их раздражали слишком частыми шпильками в адрес личных врагов автора: «Вольтера легко узнать под именем благоразумного Задига, а клевета и злобные выходки придворных… немилость, постигшая героя… все это аллегории, объяснение которых напрашивается. Так он сводит счеты со своими недругами…» Аббат Бойер [52 - Бойер Клод (1618–1698) – драматург и поэт; был священнослужителем, однако не имел сана аббата. ], наставник дофина, могущественный служитель церкви, крайне враждебно воспринял авторскую расправу с персонажем по имени Рейоб – такая анаграмма уж очень плохо скрывала истинного адресата нападок. «Мне бы хотелось, чтобы эта шумиха вокруг „Задига“ прекратилась», – писала госпожа дю Шатле, да и сам Вольтер вскоре отрекся от своей повести, которую «осмеливались обвинять в том, что она содержит дерзостные догмы, противные нашей святой религии». На самом же деле дерзость «Задига» не заходила далеко, повесть всего лишь показывала, как верования смертных меняются в зависимости от времени и места, между тем как основа у всех религий одна, и она нерушима. Это общедоступная истина, но в ту эпоху здравый смысл был не особенно популярен в свете.
Те, кто не решался нападать на теологию Вольтера, обвиняли его в плагиате. Это испокон веку самый легкий способ дискредитировать великого писателя. Коль скоро все, включая то, что говорит он, уже было сказано когда-то, нет ничего проще, чем сопоставить два сходных пассажа из разных книг. Мольер подражал Плавту, тот, в свой черед, – Менандру, который и сам наверняка оглядывался на какой-то нам неведомый образец. Фрерон [53 - Фрерон Эли Катрин (1718–1776) – журналист и литературный критик, противник Вольтера. ] с запозданием в два десятилетия корил Вольтера за то, что он почерпнул лучшие страницы «Задига» из источников, которые «этот великий копиист сохраняет в тайне». Так, блистательная глава «Отшельник» позаимствована из поэмы Парнелла [54 - Имеется в виду стихотворение ирландского священнослужителя и поэта Томаса Парнелла (1679–1718) «Отшельник». ], глава «Собака и лошадь» (предвосхищение Шерлока Холмса) – из «Путешествия и приключений трех принцев из Серендипа» [55 - «Три принца из Серендипа» – адаптация персидского эпоса о трех принцах из волшебной страны Серендип (Цейлона), понимавших язык растений, зверей и птиц. Французский перевод известен с 1719 г. ]. «Господин де Вольтер, – пишет коварный Фрерон, – зачастую читает отнюдь не бесцельно, и это ему приносит плоды, особенно те книги, которые, казалось, совсем забыты… Он извлекает из этих неведомых копей драгоценные камни…»
И что за беда? Выходит, заброшенные рудники надобно оставлять неиспользованными? Какой честный критик когда-либо утверждал, будто писатель творит «из ничего»? Ни «Отшельник» Парнелла, ни «Путешествие из Серендипа» оригинальностью не блещут. «Все эти историйки, – говорит Гастон Парис [56 - Парис Гастон (1839–1903) – филолог, исследователь средневековой литературы. ], – пересказывались на многих наречиях, пока не дошло до французского – языка настолько гибкого и живого, что на нем они приобрели видимость новизны…» Уникальность и блеск повестям Вольтера придает не его умение изобретать сюжеты, а сочетание различных, по видимости несовместимых достоинств, отличающее манеру этого автора.
Читать похожие на «Литературные портреты: В поисках прекрасного» книги
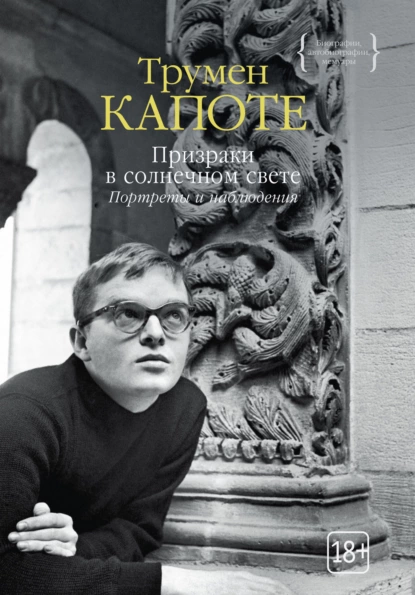
Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как «Голоса травы», «Хладнокровное убийство» и «Завтрак у Тиффани» (самое знаменитое из его произведений, прославленное в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в главной роли), входит в число крупнейших американских прозаиков XX века. Данный сборник исчерпывающе представляет Капоте как мастера художественно-документального жанра – от ранних очерков до «Воспоминания об Уилле Кэсер», написанного им за день до смерти и никогда прежде не публиковавшегося;
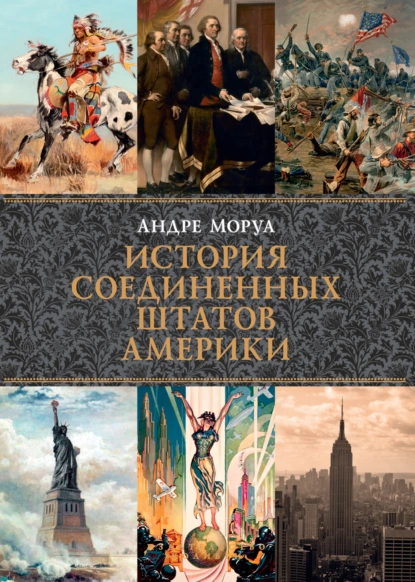
Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго, Шелли и Байрона, считается подлинным мастером психологической прозы. Однако значительную часть наследия писателя составляют исторические сочинения. История возникновения Соединенных Штатов Америки представляла для писателя особый интерес, ведь она во многом уникальна. Могущественная держава с неоднозначной репутацией сформировалась на совершенно новой территории,

Мемуары Андре Леона Тэлли – не просто рассказ о его сложном пути, а откровенная исповедь человека, чья карьера внезапно разбилась о жестокие стандарты индустрии. В своей книге Андре впервые поделился воспоминаниями о тяжелом детстве и насилии в возрасте 8 лет, о переезде в Париж и сотрудничестве с Энди Уорхолом, о дискриминации со стороны модного Дома Yves Saint Laurent и службе в Vogue, где он заработал себе имя, репутацию и душевные травмы, о которых не стеснялся говорить. Андре приоткрыл

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или

До чего же непросто спасти принцессу, если сама же ее и похитила! Теперь води женихов по запутанным тропкам Темного леса и делай вид, что ты тут ни при чем. И это когда один наглый полуэльф из кожи вон лезет, чтобы вывести тебя на чистую воду, а черный маг задался целью отомстить. Но настоящая ведьма справится с любой напастью. И не только проведет, но и доведет кого угодно!
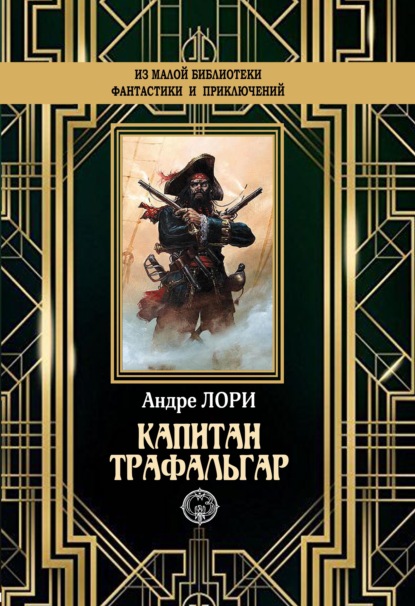
Роман «Капитан Трафальгар» посвящен трагической судьбе знаменитого корсара, который во время наполеоновских войн был грозой английских судов у берегов американского побережья.
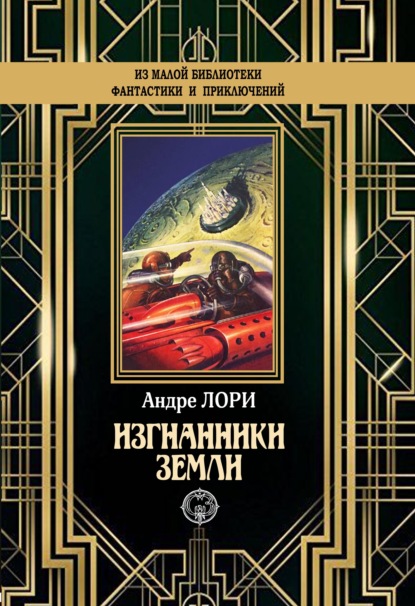
Действие развивается на Луне; читатели знакомятся с природой и реликвиями цивилизации, когда-то процветавшей на спутнике Земли.
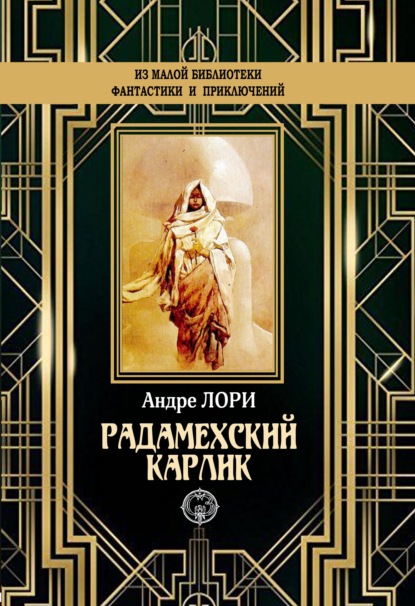
Романы «Радамехский карлик» и «Изгнанники Земли», связанные единым сюжетом, написаны в жанре научной фантастики. В первом произведении автор знакомит читателя с экзотикой Востока, с обычаями и суевериями арабских племен. В нем рассказано также о подготовке экспедиции на Луну, финансируемой акционерным обществом, внутри которого развивается интрига между коммерсантами и учеными. Во втором романе действие развивается на Луне; читатели знакомятся с природой и реликвиями цивилизации, когда-то
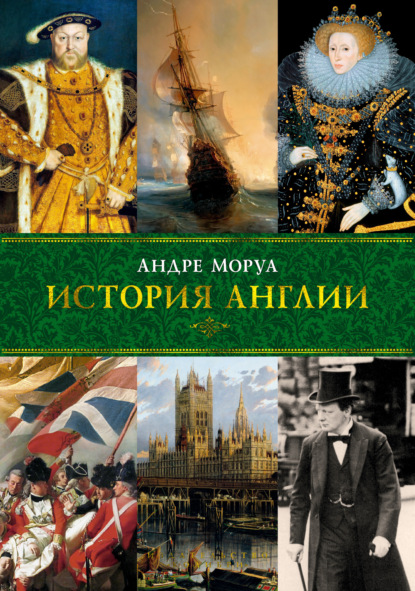
Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго, Шелли и Байрона, считается подлинным мастером психологической прозы. Однако значительную часть наследия писателя составляют исторические сочинения. В «Истории Англии», написанной в 1937 году и впервые переведенной на русский язык, Моруа с блеском удалось создать удивительно живой и эмоциональный портрет страны, на протяжении многих столетий, от неолита до наших дней,